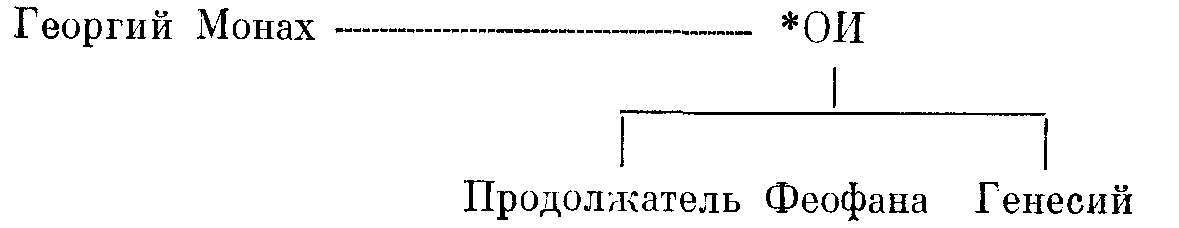
Библиотека сайта XIII век
ПРОДОЛЖАТЕЛЬ ФЕОФАНА ЖИЗНЕОПИСАНИЯ ЦАРЕЙСОЧИНЕНИЕ ПРОДОЛЖАТЕЛЯ ФЕОФАНА. ХРОНИКА, ИСТОРИЯ, ЖИЗНЕОПИСАНИЯ?
От Византии до нашего времени дошло множество биографий духовных лиц, так называемых «житий святых», 1 но ни одного жизнеописания людей светских. Можно вполне основательно предположить, что такие жизнеописания создавались, но их рукописи в течение веков были утеряны — вероятней всего, потому, что жанр этот находился в ортодоксальной Византии на литературной периферии, да и образцов его было создано не так уж много. 2 Тем не менее жизнеописания (главным образом византийских императоров) нам известны, правда, не как самостоятельные жанрово оформленные биографии, а в составе исторических сочинений. Чем иным как не грандиозным жизнеописанием императора Алексея I Комнина является написанная его дочерью Анной Комниной «Алексиада»? По сути дела серией царских биографий оказывается и знаменитая «Хронография» Михаила Пселла. 3 Историография вообще (и не только в Византии!) имеет тенденцию в определенных условиях превращаться в собрания жизнеописаний исторических деятелей. Этот процесс, однако, весьма непрост и заслуживает специального рассмотрения, тем более что связан он с такой важной проблемой, как изображение человека в византийской литературе. Для того чтобы его осмыслить, надо под определенным углом зрения хотя бы в самых общих чертах проследить историю византийской историографии, наиболее интересного, по единогласному мнению средневековых писателей и новый ученых, жанра византийской словесности. Задача эта не из легких, поскольку история византийской литературы (по объему дошедших произведений во много раз превышающая античное [202] наследие) изучена крайне плохо. Дело не в том, что до сих пор остаются в рукописях многие тексты и в научный оборот не введены многие литературные факты, — главное, что не установлены связи и сцепления между жанрами, писателями, произведениями, нет еще научной истории литературы. Существующие компендиумы — скорее, отличные справочники, нежели истории развития византийской словесности. 4 Причина этого заключается даже не в недостатке подготовительных частных исследований или тем более не в недостаточном научном уровне самих исследователей. Напротив, библиографические разделы византиноведческих журналов непомерно растут из года в год, а изучению византийской литературы отдают свои силы ученые высокой эрудиции и таланта. Дело в сложившемся и утвердившемся взгляде на византийскую литературу как на нечто недвижное, статичное и неизменное во времени и потому вовсе и не нуждающееся в историческом рассмотрении, взгляде, который, пожалуй, с наибольшей полнотой выразили три современных исследователя: англичанин С. Мэнго, немецкий — X. Г. Бек 5 и наш отечественный — С. С. Аверинцев.
По мнению С. Мэнго (его обобщающая статья носит весьма характерный заголовок: «Византийская литература — кривое зеркало»), 6 все корни византийской литературы уходят в античную почву и потому между литературой и реальностью в Византии не было и не могло быть никакой связи. Ученый говорит даже о «дихотомии» литературы и реальности в Византии, Все литературные памятники существовали как бы изолированно, вне всякой связи один с другим, и потому не может быть даже и речи о каком-либо «идейном» или каком-либо еще развитии византийской литературы. Примерно ту же точку зрения со свойственной ему афористической образностью выразил и С. С. Аверинцев. 7 Поскольку труды ученого большей частью опубликованы по-русски и лучше известны нашему читателю, подробней остановимся на позиции этого ученого. В самом кратком и огрубленном виде ее суть сводится к следующему. В Византии, в отличие от Запада, не существовало и не могло существовать «ситуации спора», не было никаких более или менее четко выраженных «позиций сторон», да и самих этих сторон не существовало тоже. Все как бы поглощалось всеобщей универсальной «школьной нормой», благодаря чему все византийцы писали «враз и об одном и том же». Из этого положения естественно [203] напрашивался и следующий вывод. Если не было «позиций сторон» и «школьная норма» господствовала безраздельно, не могло существовать и никакого развития византийской литературы, включая историографию. И действительно такой вывод делается самим С. С. Аверинцевым несколькими страницами позже. Византийская литература с самого начала существовала «готовой», и ей предстояло лишь «варьирование и всесторонняя реализация самой себя».
В подтверждение сказанного С. С. Аверинцев указывает на известные факты, когда по внутренним стилистическим и иным факторам оказывается совершенно невозможным датировать произведение, и одни и те же сочинения разные ученые относили к совершенно разным эпохам с диапазоном в четыре — восемь веков: драму «Христос Страждущий», созданную, видимо, в XII в., некоторые исследователи до сих пор приписывают Григорию Назианзину (IV в.), а сочинение Иоанна Камениаты «Взятие Фессалоники», всегда уверенно относимое к Х в., было совсем недавно довольно убедительно передатировано XV в. Не станем пока оспаривать тезис об отсутствии у византийцев собственной позиции, к нашей теме он имеет пока косвенное отношение. То, что некоторые произведения византийцев почти не датируются по внутренним признакам, замечено уже давно, и их число можно было бы еще увеличить. 8 Однако не противостоят ли этим памятникам множество других, датировка которых вполне определенна? Не является ли факт появления таких «недатируемых» памятников общим свойством словесной культуры, замешанной на риторике, законы которой «вечны и вневременны» по самой своей сути? Даже античность, постоянно противопоставляемая Византии, знает такие примеры. 9
Не станем далее опровергать эту позицию. Будем надеяться, что дальнейшие рассуждения послужат ей достаточным противовесом, хотя бы в области одного жанра византийской литературы — историографии.
Что касается историографии, то существует другой, далеко еще не преодоленный стереотип, восходящий к «отцу византийского литературоведения» Карлу Крумбахеру. Согласно воззрениям этого ученого, византийская историография на протяжении всех веков своего существования четко разделялась на два почти не смешивавшихся между собой жанра — «историю» и «хронографию», каждый из которых изначально имел вполне устойчивые признаки. Все, по Крумбахеру, различно в этих жанрах. «Хроники», изложение событий в которых подчинено строгому хронологическому принципу, начинались с сотворения мира, писались монахами (подчас малограмотными), адресовались широким монашеским кругам и не имели почти никакой связи с античной традицией. Они «тиражировались» в большом числе рукописей, сам их материал представлял собой своего рода «общее достояние», поскольку переходил из одного сочинения в другое, в результате чего разница между автором, редактором, а подчас и переписчиком [204] становилась условной и трудно уловимой. Напротив, «истории» посвящены определенному отрезку времени, написаны светскими и весьма искушенными в античной образованности авторами, они имели сравнительно небольшие «тиражи» и были обращены к образованной элите византийского общества. 10 Подвергнутая уже более двадцати лет назад весьма основательной критике, 11 эта концепция тем не менее и поныне остается основой как для обобщающих трудов, так и для конкретных исследований. Так, например, Г. Хунгер, хотя и отказывается от раздельного рассмотрения «хроник» и «историй» и располагает те и другие в хронологическом порядке, тем не менее воспринимает их как два разных жанра, первый из которых — «тривиальная литература», нечто вроде средневекового кича, а второй — творение образованных авторов, восстановление античной традиции. Хотя Хунгер делает немало интересных замечаний о художественной природе ряда произведений, тем не менее в целом раздел об историографии остается, как и у К. Крумбахера, собранием маленьких монографий об историографах. 12 Вместо развития и сложного взаимоотношения различных жанровых форм византийская историография и поныне представляется в виде двух застывших в своей неизменности линий, сохраняющих свои родовые черты с VI по XV вв.
Всякая попытка сломать этот стереотип наталкивается, однако, на трудности, заключенные в самом материале византийской литературы. Во-первых, с самого начала византийская историография, как и вся византийская литература, находится под сильнейшим воздействием античной традиции. Может создаться даже впечатление, что у византийской литературы не было своей архаики (равно как и периодов «классики» и «эллинизма») 13 и что вся она — не более как затянувшийся декаданс античности. Постоянное античное воздействие как бы смазывает и делает плохо различимым процесс имманентного развития византийской историографии. Во-вторых, раз возникшие литературные формы, как правило, в дальнейшем не исчезают, а как бы консервируются и продолжают свое существование чуть ли не до самого падения Византии, а иногда и дольше. В результате одновременно могут создаваться литературные произведения стадиально совершенно различные. Так, например, в одном и том же XI в. были написаны столь совершенное и развитое в жанровом отношении сочинение, как «Хронография» Михаила Пселла, и почти одновременно — примитивная «Хроника» Иоанна Скилицы.
В VI в. (а именно с него мы начнем рассмотрение византийской историографии) две упомянутые линии четко противопоставлены в исторической беллетристике. Античность в это время еще не успела стать ни ушедшим прошлым, ни превратиться в объект ностальгического подражания, внешней имитации, ни в объект отталкивания. Хотя христианство к тому [205] времени давно уже стало господствующей религией, в византийском образованном обществе было немало людей, живших в атмосфере еще живой, а не реставрированной античной культуры. Именно в их среде возникли и читались такие исторические сочинения, как труды Прокопия, Агафия, Феофилакта Симокатты. Эти произведения не столько написаны по античным шаблонам, сколько «античны» по своему духу, отношению к историческому герою, стилю изображения исторических событий. Вряд ли стоит доказывать то, что лучше всего ощущается в непосредственном восприятии.
В разительном противоречии с трудами Прокопия, Агафия и Феофилакта Симокатты находится другое сочинение IV в. — «Хронография» Иоанна Малалы, с которого мы и начнем рассмотрение византийской исторической литературы. Это произведение новые исследователи не раз называли «загадочным». В нем и действительно все «загадочно», если только подходить с мерками античной или антикизирующей историографии. Прежде всего вопрос об авторстве хроники. Как правило, античный исторический автор — хорошо известная фигура с более или менее четкой писательской позицией. Что же касается Малалы, у нас фактически нет никаких достоверных сведений, кроме имени. 14 Если же говорить о «позиции» этого писателя, то ее может установить разве что исследователь с хорошо развитым воображением. Ученые приложили немало усилий для определения взглядов Малалы, однако их методы, отточенные на изучении классиков, привели к нулевому результату. 15 Но, пожалуй, более всего отличают «Хронографию» Малалы от сочинений современных ему «античных» авторов тематика, структура и метод изображения героя. На этом стоит остановиться подробнее, дабы на примере одного сочинения показать специфику византийской исторической хроники.
Если Прокопий, Агафий и Феофилакт Симокатта писали о событиях близкого им времени, известных им как очевидцам, по слухам или современным документам, то Малала начинает свою историю от сотворения мира и доводит до своего времени, создавая грандиозную картину всемирной истории. Впрочем, эта картина столь же грандиозна в целом, сколь и нелепа (во всяком случае, с позиций традиционного подхода) в деталях. Немало исследователей потешались над фантастическими построениями и элементарной путаницей в сочинении историка, умудрившегося буквально поставить с ног на голову библейскую традицию, античную мифологию и древнюю историю. Веками отработанные античными авторами приемы организации исторического материала оказываются бесполезны [206] для писателя, в поле деятельности которого попадает не история отдельного региона в ограниченное время, не биография или кампания императора, а история, охватывающая всю известную ойкумену и все время от сотворения человека. Это легче всего показать на анализе композиции «Хронографии». 16
Как нетрудно заметить даже при беглом чтении, в композиционном отношении «Хронография» разделяется на две части. Первая — до установления империи Октавиана Августа, вторая — от начала императорской истории Рима и до неожиданного обрыва произведения. Во второй из частей — четкое построение «по императорам», в первой — невероятный конгломерат событий из библейских преданий, греческой мифологии, истории Ассиро-Вавилонии, Персии, царского и республиканского Рима, Македонии и Египта. Однако и в этом невероятном конгломерате есть своя логика и законы построения. Прежде всего она дробится на большие разделы, каждый из которых посвящен одной теме (библейская история «от Адама», древнейшая мифологическая история, израильская история, ассирийская и персидская история, история Рима периода царей, македонская история).
Посвящение каждого раздела одному определенному народу или царству вовсе не означает, что в поле зрения хрониста попадают исключительно события их истории. Скорее, наоборот, действие (если можно так назвать хроникальные заметки Иоанна Малалы!) гораздо чаще переносится в другие регионы, чем остается в пределах основного. Так, например, в рассказе об израильской истории о самой истории Израиля говорится очень мало, упоминается лишь о смене правителей, судей, царей. Эти сообщения, однако, оказываются как бы композиционной рамкой повествования, своеобразным каркасом, наполняемым сообщениями о событиях других регионов, чаще всего Греции. Любопытно, что сообщение о смене израильских правителей может занимать одну или несколько строчек, между тем как изложение событий из других регионов, произошедших под этой хронологической пометой, обнимает десятки страниц. Благодаря такому искусному композиционному приему Малале как раз и удается построить синхронизированную (пускай фантастическим образом!) историю, вмещающую в себя не одну страну, не одно царство, не тем более правление одного императора, а всю известную тогда ойкумену. «Идея всемирной истории, — писал немецкий ученый, — присутствует в любой ничтожнейшей средневековой хронике, хотя ее нельзя найти у классических греческих и римских историков». 17
С началом второй половины «Хронографии» (время правления римских и византийских императоров) композиция произведения претерпевает [207] значительную модификацию. Если в первой части Малала делал попытку в относительном единстве рассказать об истории всей ойкумены, непрестанно «перебрасывая мосты» между событиями из разных регионов, то отныне предметом его внимания оказываются почти исключительно события римской и далее византийской истории. Если в первой части Малала считал возможным опускать правителей ряда регионов, то отныне из поля его зрения не выпадает ни один император. При этом отмечается время правления даже тех императоров, которые занимали трон всего несколько месяцев, а то и дней и решительно ничем себя проявить не успели. О них сообщается лишь факт восшествия на престол и смерти. Выполняя свой долг хрониста, Малала фиксирует время, но оставляет его пустым и бессобытийным.
На все повествование второй части как бы накладывается жесткая, пусть и с пустыми ячейками, хронологическая сетка, пунктуально размеренная периодами царствований. Еще четче, чем раньше, линии этой сетки отмечены устойчивыми словесными формулами, допускающими теперь уже совсем незначительные вариации. Не утомляя читателя многочисленными примерами, укажем лишь на несколько наиболее часто встречающихся клише. Среди них надо различать хронологические или вводного характера формулы («во время его царствования»..., «тот же царь...») и формулы, вводящие или даже раскрывающие сообщения определенного содержания («пострадал от гнева божия...», «соорудил...», «принял мученичество...», «выступил в поход на...» и т. д.).
Почти все упомянутые (и неупомянутые) формулы встречались и в первой части «Хронографии», но здесь они как бы концентрируются все вместе, дабы в совокупности своей составить костяк или своего рода каркас исторического повествования. Само собой разумеется, такое построение «Хронографии» оказывается возможным при двух условиях. Во-первых, из бесконечной череды исторических событий историк выбирает лишь эпизоды определенного содержания. Иными словами, степень избирательности хрониста по отношению к историческим фактам чрезвычайно велика, сито, через которое они просеиваются, имеет очень маленькие ячейки... Во-вторых, аналогичные или однотипные сообщения выливаются в одни и те же или совсем мало варьируемые словесные формулы. Хронист как бы знает лишь одну возможность для выражения определенного содержания. Естественно, что при этом содержание сообщений или эпизодов как бы «генерализуется», обобщается, все частное, особенное скрадывается и нивелируется.
Можно сколько угодно сетовать на «монотонность», «скованность», лексическое и синтаксическое однообразие Малалы-писателя, пришедшее на смену разнообразию и художественной раскованности античных историков, но нельзя отрицать, что эта монотонность, стремление к классификации и применению одних и тех же словесных формул — не столько результат падения художественного мастерства, сколько неотъемлемое свойство исторического и художественного метода средневекового хрониста. Если античный историк компоновал факты в зависимости от своей концепции, авторской воли, художественных принципов, наконец, созидал, [208] говоря современным языком, «модель мира», заменяя объективно-историческое время субъективным, то Малала старается выстроить не связанные между собой исторические факты в строгой, вернее, кажущейся ему строгой) хронологической последовательности, приближая повествовательное время к объективно-историческому.
К концу повествования, в тех частях, где рассказывается о современных Малале событиях, хронологическая сетка не только не снимается, но напротив, становится еще регулярней. Прежние вводные формулы постепенно вытесняются единообразной — «в это самое время», но и эта формула в конце рассказа о Юстиниане заменяется все более дробными временными указаниями типа «в индикт такой-то» или «в месяц такой-то». Равномерные «удары метронома» все учащаются, отсчитывая уже не целые царствования, а годовые и даже месячные промежутки. Таким образом, «императорская хроника» постепенно превращается в анналы, если под анналами можно подразумевать не только строго погодную хронику, но и перечень событий, снабженный как годовыми, так и месячными пометами.
В «Хронографии» Малалы как бы в эмбриональной форме заложены все композиционные методы последующей византийской хронистики. Регионально-генеалогический принцип, синхронное построение, анналистический метод, отдельные частные эпизоды, построенные по тематическому принципу, — все это используется в дальнейшем авторами хроник, все это в конечном счете — выражение «средневековой ментальности», четко противостоящей античному способу изображения истории.
«Хронография» Малалы оказалась «пионерским» произведением не только благодаря своей композиции. В не меньшей степени эта ее роль сказывается и в методах изображения исторического героя.
Античная историография создала сложные и многообразные формы зависимости между персонажами и композицией произведений. Герой, раскрывающийся в ходе повествования, герой, определяющий собой последовательность рассказа, наконец, биографический способ подачи материала — все эти формы развились в античности на долгом пути от Геродота до Тацита и Плутарха 18, и все они оказались непригодны для первого известного нам средневекового византийского хрониста Малалы. В произведении, развитие событий которого не имеет внутренних пружин, а подчинено накладываемой извне хронологической схеме, герой оказывается не двигателем действия, а его придатком. И хотя повествование ведется обычно в активных глагольных формах, герои играют роль «формального подлежащего»: никакие их свойства и качества не оказывают заметного воздействия на события. 19
Спектр чувств, которые испытывают персонажи Малалы, до предела ограничен и сужен, их можно легко перечислить. Герои весьма часто «гневаются» [209] (aganaktein, и причастия от него встречаются постоянно, реже — orgizein), довольно часто «влюбляются» и «любят» (обычно мифологические персонажи, но иногда и исторические), «огорчаются», «боятся», «безумствуют».
Связь между «чувством» и «действием», им вызванным, как правило. непосредственная и мгновенная. «Разгневавшись (aganakthsaV), царь совершил нечто» — построенные по этой схеме фразы рассеяны по всему произведению.
Точно так же весьма ограничен набор определений, которыми наделяются персонажи (мы пока не говорим о так называемых соматопсихограммах, о которых речь впереди). Мужчины весьма часто «мудры» (sojoV), «очень мудры» (panu sojoV, sojotatoV), женщины — «красивы» (euprephV), «очень красивы» (euprepestath). Если sojoV и euprephV имеют чуть ли не характер постоянного эпитета, то остальные определения встречаются значительно реже, а некоторые из них и вовсе по одному разу, их нетрудно перечислить.
Иногда эпитеты просто сопровождают то или иное имя; иногда свойство, ими обозначаемое, влечет за собой значимые для действия последствия. Но и в данном случае действие соединено со свойствами персонажей связями непосредственными и «мгновенными»: имя рек полюбил такую-то как красивую (wV eupreph), император приблизил такого-то как мудрого (wV sojon). Конструкции такого рода встречаются нередко.
Собранные вместе примеры упоминания «чувств» и «свойств» персонажей могут создать впечатление чего-то значимого|для повествования Малалы. На самом деле это не так. Рассеянные на всем пространстве сравнительно большой по объему «Хронографии», они в лучшем случае играют роль дополнительной пружины отдельных моментов действия, в то время как главная, если не единственная, двигательная сила — мерный ход времени, запечатленного в строгой хронологической сетке, о которой говорилось выше. Об этих «дополнительных пружинах» и вовсе не стоило бы говорить, если бы в процессе развития византийской историографии они не имели тенденции превращаться в основные.
Обращает на себя внимание, что как «чувства», так и качества, которыми наделяет автор своих персонажей, имеют самый обобщенный, абстрагированный, так сказать, родовой характер, представлены в самом что ни на есть «стерильном» виде, не имеют никаких уточнений и «акциденций».
И тем не менее, как это ни покажется парадоксальным, Малала принадлежит к числу тех авторов, которые дают наиболее развернутую и детализированную характеристику своих персонажей — мифологических, исторических, библейских. Это характеристики, получившие меткое наименование «соматопсихограмм», состоят из нескольких эпитетов, описывающих внешние и нередко внутренние свойства героя. Они сопутствуют появлению ряда мифологических персонажей, учащаются в разделе о Троянской войне и продолжаются с некоторыми пропусками в части, посвященной римским и византийским императорам. Соматопсихограммы римских и византийских императоров располагаются, за редчайшими исключениями, [210] на строго фиксированном месте, непосредственно вслед за сообщением о воцарении императора и числе лет его царствования и всегда вводятся одной и той же формулой hn de и, таким образом, составляют устойчивый структурный элемент рассказа. 20
Будучи устойчивым элементом рассказа, соматопсихограммы и сами организованы как некие структурные единства. Мы их называем структурными единствами потому, что построены они по определенному фиксированному порядку: начинаются с нескольких эпитетов, характеризующих внешность, и кончаются чаще всего определениями психоэтического свойства (в среднем от одного до трех). «Внешние» эпитеты почти без исключения начинаются с характеристики роста («высокий», «маленький», «средний» и т. п.) и телосложения («худой», «широкоплечий», «массивный» и т. п.). Последовательность дальнейших эпитетов — свободная, хотя и тут можно установить некоторые тенденции. Что касается определений внутренних качеств, то, как это было отмечено до нас 21, на первом месте регулярно ставится эпитет общего содержания, применяемый в сочинении к большому числу персонажей, за ним следуют более редкие, а то и единожды встречающиеся во всем сочинении.
Круг свойств, на которые обращает внимание автор, равно и эпитеты, их обозначающие, вполне обозримы и в числе ограничены.
Э. Роде назвал соматопсихограммы Малалы «образцом византийской безвкусицы». 22 Стремясь обелить византийцев, некоторые ученые «перелагают вину» за малоэстетичные, по современным критериям, соматопсихограммы на Светония и других позднеримских историографов, в чьих сочинениях действительно встречаются типологически сходные характеристики. Один из исследователей даже пытается возвести их к сухим описаниям лиц в деловых текстах египетских эллинистических папирусов, описаниям, метко охарактеризованных им как Polizeiliche Signalement. При нынешнем состоянии источников вряд ли удастся однозначно решить проблему их происхождения 23. Вполне, однако, очевидно, что в художественной системе «Хронографии» Малалы эти соматопсихограммы не инородная, а самая что ни на есть органичная составная часть, хотя под «органичностью» следует в данном случае понимать не связь характеристики с окружающими элементами, а напротив, ее полное отсутствие. Как и все прочие элементы «Хронографии» соматопсихограммы существуют как бы в совершенной изоляции, абсолютно «отключены» от своего окружения». [211]
Есть и другая причина, по которой соматопсихограммы органичны для «Хронографии». Характеристики персонажей «Хронографии» обнаруживают внутреннее композиционное сходство со всем произведением. Стиль художественного мышления автора проявляет себя одинаково и в целом и в его частях. В самом деле, если жесткая хронологическая сетка подчиняем и формирует исторический материал «Хронографии», то строгая структура соматопсихограмм таким же образом ранжирует свойства ее персонажей. Если в «Хронографии» в целом многообразие событий реальной истории трансформируется в ограниченное число эпизодов, выраженных, как правило, мало варьируемыми формулами, то в соматопсихограмме все многообразие свойств персонажа «рубрицируется» немногочисленными эпитетами. При этом почти каждый из них как бы генерализирует определенный аспект внешности или внутренних качеств героя («малорослый», «худой», «великодушный» и т. п.).
Эпизоды «Хронографии», говорили мы, никак взаимно не связаны и механически примыкают один к другому; тем более асиндентичны эпитеты, входящие в состав соматопсихограмм. Малала так же не видит связи между отдельными историческими фактами, как не замечает взаимообусловленности человеческих свойств и качеств. Каждый эпитет имеет самодовлеющее значение и никак не сопряжен с соседними.
В классической «Истории византийской литературы» К. Крумбахера сказано: «Хроника Малалы настолько же жалка сама по себе, насколько важна для истории литературы: в ней (по крайней мере в известной нам традиции) впервые появляется важный с точки зрения истории культуры и литературы тип христианско-византийской монашеской хроники. 24 Немецкий ученый не совсем справедлив к Малале. «Жалким» его произведение может быть названо лишь с позиций ученого, чей вкус воспитан на образцах античной или новой литературы. Широкое распространение «Хронографии» в средневековье в разных регионах показывает, что византийцы и окружающие народы отнюдь не судили об этом произведении столь строго и безапелляционно. Не совсем точен К. Крумбахер и когда называет Малалу родоначальником христианско-византийской монашеской хроники. На самом деле Малалу с полным правом можно назвать отцом всей византийской историографии. И тем не менее ученый прав в основном: независимо от оценки «художественных» достоинств «Хронографии» ее историко-литературное значение огромно. Именно через «Хронографию» Малалы проходит демаркационная линия между античной и средневековой историографией. Отделяющая две эпохи демаркационная линия проходит и через другие произведения литературы, искусства, архитектуры VI в. 25 Речь в данном случае идет не только о мировоззренческих вопросах, но и о стиле в самом широком смысле этого слова.
В творчестве Малалы историография, «забыв» огромный художественный опыт, накопленный в античной литературе, вновь начинает свою [212] историю, по сути дела возвращается к стадии древнегреческих логографов и римских анналистов, с которыми, видимо, имеет определенное типологическое сходство. 26 В «Хронографии» и действительно есть немало «архаических» черт, свойственных ранним ступеням литературного развития: связанность произведения извне накладываемой формой-схемой внелитературного происхождения, эпически беспристрастное изложение материала (как ни парадоксально такое сравнение, можно вспомнить Гомера, одинаково восхваляющего «греков и троянцев»), наличие общих мест, словесных клише и даже своеобразных постоянных эпитетов как при изложении событий, так и при описании персонажей, и т. д. И тем не менее Малала — не древний логограф и не отрешенный от цивилизации полуграмотный переписчик, а человек, знакомый, пусть и в весьма своеобразной форме, как с античной традицией, так и (в вульгаризованном виде) с философскими, богословскими и политическими проблемами.27 Вот почему «архаическая» форма не существует и не может существовать у него в чистом виде, как вообще не существует и не может существовать «в чистом виде» средневековая византийская литература, постоянно подвергающаяся то большему, то меньшему воздействию своей великой античной предшественницы. Возможно, здесь и надо искать разрешения ряда «противоречий», бросающихся в глаза современному читателю при чтении «Хронографии» Малалы.
Если в динамичной античности архаические формы исторических сочинений очень скоро превращаются в литературно развитую историографию (между Гекатеем Милетским и Геродотом и Фукидидом — десятилетия), то в Средние века хронографический стиль консервируется, развивается хотя и в том же направлении, но весьма медленно, закрепляя на долгое время раз обретенные приемы изображения (между Малалой и «развитой» историографией XI—XII вв. — века!).
В VII в., с наступлением «темных веков» византийской истории, традиция «античной» историографии прерывается вовсе, в то время как «истинно [213] византийская» хронистика развивается достаточно интенсивно. Вряд ли удастся проследить и связно изложить ее историю, ведь дошедшие до нас памятники — не более как отдельные звенья безвозвратно утерянной цепи, впрочем, для наших целей вполне достаточно и пунктирной линии.
Традиции Малалы не только развиваются, но, можно утверждать, усугубляются в так называемой «Пасхальной хронике» VII в., анонимный автор которой в значительной мере прямо опирается на сочинение своего предшественника. Это «усугубление» идет, однако, главным образом в одном определенном направлении. Как мы видели, «Хронография» Малалы была чудовищным конгломератом ученых поползновений, с одной стороны, и наивного творчества с чертами архаического стиля — с другой. 28 Как и следовало ожидать, в христианской, обремененной ученостью Византии первый компонент получил преимущественное значение. 29 Интерес анонимного автора концентрируется вокруг хронологии и ее точного исчисления. Это вполне можно понять. Время получает в «Пасхальной хронике» символическое и сакральное значение. Оно не безразлично к происходящим в нем событиям, а имеет к ним самое непосредственное отношение. Если для Малалы время служит прежде всего хронологическим каркасом, в который помещаются все события мировой истории, то для автора «Пасхальной хроники» время и его исчисление приобретают уже самодовлеющее значение, ибо только благодаря «точным» хронологическим расчетам вскрывается символическая связь событий. 30
«Ученая» линия византийской хронографии окончательно восторжествовала в творчестве хрониста конца VIII — начала IX вв. Георгия Синкела. Его сочинение — огромный компендиум, доведенный до царствования Диоклетиана и не законченный в связи со смертью автора, представляет настоящий кладезь раннесредневекового исторического знания, еще ждущий своего внимательного исследователя. 31 Подобно автору «Пасхальной хроники» Георгий основное внимание уделяет розыску и обоснованию исторических дат и установлению их символического, сакрального значения, однако делает это с эрудицией и тщанием настоящего средневекового [214] эксегета, исследующего и опирающегося на десятки сочинений своих предшественников. Подобно Малале, Георгий Синкел старается создать грандиозную конструкцию, в которой могла бы уместиться вся мировая история, однако в отличие от своего предшественника не обладает иллюзией абсолютного знания и потому в беспокойном поиске истины без конца возвращает назад повествование, по нескольку раз на основании разных источников рассказывает об одних и тех же событиях, делает длинные выписки из сочинений своих предшественников, громоздит одно на другое противоречивые свидетельства. Создается порой впечатление, что перед нами не законченное сочинение, а лишь его черновой конспект. Однако самое «идейно значимое» отличие Георгия Синкела от Малалы заключается в том, что для последнего хронологической рамкой и «мерой» всех событий постоянно и непременно является священная история. Вспомним, у Малалы эта рамка все время менялась, ее роль выполняли последовательно сменявшиеся «царства». Процесс сакрализации истории достигает у Георгия Синкела своего апогея. В то же время Георгий Синкел — скорей аналитик, нежели систематизатор, и его аналитические тенденции находятся в определенном противоречии с системосозидающей функцией византийской историографии. Тем удивительней, что самым последовательным систематизатором в византийской историографии оказался его ученик и почитатель Феофан Исповедник. Ученик совершил то, что тщетно стремился сделать, но не сумел (или не успел?) его учитель: изложить историю в строгой погодной, анналистической системе. Конечно, задача Феофана была несравненно легче, чем у Георгия. Историк не переписывает всю историю заново, а продолжает ее с того пункта, на котором остановился его наставник, и в поле его зрения попадают лишь события римско-византийского региона. Дело, однако, не столько в масштабе предприятия, сколько в организации и композиции его труда. Обозначенный у Малалы, намеченный у Георгия Синкела анналистический принцип проведен у Феофана с завидной последовательностью. 32 В соблюдении этого принципа Феофан воистину непреклонен. Не останавливаясь перед явным насилием над материалом, он допускает немало хронологических ошибок, объединяет под одним годом разновременные события, пересказывая свои источники, нарушает сцепления фактов, устанавливает новые логические и временные связи между эпизодами, по принципу мозаичиста по-новому компонует текстовые блоки и делает все это ради анналистической систематизации исторического материала. В отличие от Георгия Синкела Феофану «все ясно», его не посещают сомнения и колебания, он безусловен и категоричен, его версии и хронология событий должны молчаливо восприниматься как единственно правильные и надежные. Поскольку излагаемые факты представляются Феофану непреложно истинными, ему нет нужды, подобно своему учителю, указывать на источники, 33 а тем более сопоставлять [215] их между собой. Более того, сам автор как бы исчезает из бесстрастного и максимально объективизированного повествования. Феофан пишет на грани анонимности, утверждает И. С. Чичуров.34
Этот же исследователь, явно эпатируя знатоков византийской литературы, именует одного из самых традиционных писателей новатором, имея в виду не применявшуюся до Феофана анналистическую форму его труда. 35 В этом парадоксе, однако, заключена лишь одна половина всегда диалектичной истины. Феофан действительно новатор, поскольку первый (и кстати последний) воспользовался формой строгой погодной хроники, столь обычной для средневекового Запада, мусульманского мира и Древней Руси, но уникальной в Византии. Однако Феофан и самый «средневековый» из византийских хронистов, в творчестве которого достигает своего пика «системосозидающая» тенденция, свойственная изначально византийской историографии.
Наиболее выразительная для медиевального способа исторического мышления анналистическая форма не пустила, однако, корней в византийской хронистике. Уже следующий за Феофаном хронист Георгий Монах возвращается к традиционной «императорской хронике», членя время не по годам, а по периодам царствования византийских василевсов. Впрочем, вряд ли следует очень акцентировать разницу между методами построения истории Георгия Монаха и, например, Феофана. По своей мировоззренческой основе они в принципе очень схожи. Оба автора как бы налагают на события мировой истории жесткую хронологическую сетку, хотя и с разными по величине ячейками: у Феофана их роль выполняет хронологический год, у Георгия — период царствования императора. Насколько методично и последовательно проводится этот принцип Георгием, видно хотя бы из того, что историк не пропускает даже царей, владевших престолом несколько месяцев и не совершивших ничего достойного упоминания хрониста. Хотя на выделенные в изданиях главки текст рукописи и не делится, тем не менее разделы, посвященные каждому императору, четко отграничены начальной стандартной формулой (после Х царствовал Y в течение Z лет), после которой, как правило, следует одна-две фразы об императоре, нередко включающие сообщение о его смерти. Затем Георгий Монах об императоре категорически забывает и излагает события без всякой связи с фигурой царя. Таким образом, василевс оказывается не более чем эпонимом, проще говоря, обычной хронологической пометой (наподобие календарного года у Феофана) для событий, с которыми он не объединен никакой внутренней связью. Сам рассказ строится в виде суммы рядоположенных эпизодов — сообщений, сочлененных простейшими соединительными звеньями типа «при нем», «в то время» и так далее. [216]
Нетрудно видеть, что при всех внешних модификациях построение византийской хроники по существу мало изменилось за три века, отделяющих Георгия Монаха от Малалы. Не так много изменений можно обнаружить и в характере обрисовки персонажей. Если исторические события в известном смысле остаются атрибутами времени, то на долю героя приходится роль еще меньшая: как и у Иоанна Малалы, он остается «формальным субъектом» действия. Впрочем, такое утверждение нуждается в оговорке. Если характеристики Малалы в подавляющем большинстве случаев были совершенно нейтральны (апостол Павел и Одиссей характеризуются очень сходными эпитетами!), то в последующей хронистике по мере догматизации христианства все более утверждается принцип, который немецкие ученые обычно определяют емким словом Schwarzweissmalerei, т. е. четкое разделение героев на «черных» и «белых», «злодеев» и «праведников», «положительных» и «отрицательных» без всяких полутонов и переходов. Своей вершины этот принцип достигает у Георгия Монаха.
Пребывание героя на периферии исторического повествования несомненно связано с самыми основами христианского миропонимания — представлениями о взаимоотношении человека и Бога, свободной человеческой воли и божественного промысла. В самом элементарном виде их можно охарактеризовать следующим образом (сделаем это, пользуясь примерами Георгия Монаха). Карающий судия Бог определяет течение земных дел, наказывает людей за грехи, вознаграждает за добродетели (Georg. Mon. 730.9). Почти всегда это именно Бог, а не его обезличенные субституты. Соотношение высшей силы, Бога и событийного ряда элементарно и однозначно: «вызовы» нарушителей божественного миропорядка влекут за собой более или менее быструю реакцию — «ответ» (мы в данном случае употребляем частый в теологической литературе и у историков термин apojasiV) Бога. Впрочем, бывают и исключения, поскольку справедливый божественный суд может и не обладать для людей сиюминутной определенностью и ясностью. Арабы, например, овладели Сирией «по неясному суду божьему» (Georg. Mon. 707.17). Божественная воля проявляется, естественно, не только post eventum, не только в виде воздаяния за уже совершенные поступки, но и загодя, и тогда она сказывается во всевозможных предсказаниях, предзнаменованиях, чаще всего в виде необычных природных явлений и т. п.
И тем не менее в этой картине мира, где все казалось бы предопределено божественной волей, немалое место зарезервировано свободному человеческому выбору (proairesiV). 36 Именно своими поступками, своим собственным свободным выбором человек или обеспечивает себе спасение, или навлекает на себя божий гнев. Противопоставляя христианскую и мусульманскую веру, Георгий Монах утверждает, что, согласно первой, Бог не повинен ни в каком зле и самовластен человек в спасении своем и гибели (Georg. Mon. 703.21 сл.). Напротив, мусульманский пророк (его имя сопровождается [217] изощренными проклятиями) приписывает божественному провидению все, что только случается с человеком, происходит ли это по козням дьявола или по его собственному легкомыслию и дурному решению. Таким образом, несмотря на божественное управление миром, человек способен влиять на течение событий, ибо то или иное поведение должно вызывать соответственно разную реакцию, «ответ» Бога. Возникшие тут логические противоречия ни византийские богословы, ни тем более историки решать не пытались, но дурные порывы человеческой души приписывали козням дьявола, которому также отводилось соответствующее место в возглавляемой Богом иерархии (Georg. Mon. 669.1 сл.).
Итак, две казалось бы несоединимые идеи — власти божественного провидения и свободного человеческого выбора (извечная амбивалентность византийского сознания! 37) — мирно сочетаются в представлениях средневековых греческих хронистов. Но если первая — в конечном счете основа византийской «безликой», «безгеройной» историографии, то вторая окажет влияние на художественную ткань произведения несколько позже.
Но об этом дальше.
Представленный здесь короткий обзор византийской историографии VI—IX вв. крайне неполон, его задача — хотя бы бегло охарактеризовать ту литературную традицию, к которой примыкало и которую в значительной мере преобразовало сочинение, известное под условным наименованием «Хронография» Продолжателя Феофана.
Полный текст «Хронографии» Продолжателя Феофана сохранился в двух рукописях, хранящихся в настоящее время в Ватиканской библиотеке. Одна из них составлена в XI в. (Vat. gr. 167), другая — в XVI в. (Cod. Barber, gr. 232). Впрочем, рукопись XVI в. — не что иное как копия первого манускрипта, и, таким образом, известный нам текст базируется фактически на единственной, правда, достаточно древней рукописи, К сожалению, первый издатель текста Комбефис опубликовал в 1685 г. «Хронографию» не по ранней и оригинальной, а по поздней рукописи-копии, при этом не только воспроизвел все ее описки, но и прибавил кое-какие от себя.38 Издание Комбефиса было без изменений перепечатано в «Боннском корпусе», с него и сделан наш перевод.
Даже при беглом чтении «Хронографии» становится ясным, что это сочинение — плод творчества не одного, а по крайней мере трех или четырех [218] авторов. Лемма, предпосланная всему сочинению, явно заимствована из какой-то древнейшей рукописи, содержавшей лишь первые четыре книги «Хронографии».39 Видимо, не слишком вдумчивый редактор механически монтировал разные произведения. Об этом же свидетельствует и сохраненная редактором отдельная лемма к пятой книге, так называемому «Жизнеописанию Василия» 40, приписывающая составление этой части не кому иному как императору Константину VII Багрянородному. Совершенно отдельную по происхождению часть представляет собой последняя, шестая книга, объединившая в себе рассказы о царствовании нескольких императоров. Таким образом, в том виде, в котором «Хронография» до нас дошла, это сочинение представляет собой типичный средневековый «летописный свод», в котором достаточно механическим путем объединялись разные произведения, между собой даже как следует не состыкованные. Кому принадлежат отдельные части этого летописного свода? Когда они были написаны? Кто был составителем всего произведения? Ответы на эти вопросы большей частью гипотетичны.
Составитель I—IV книг анонимен. Из предисловия нам известно только, что писал он по заданию византийского императора Константина Багрянородного, который сам «трудолюбиво собрал и обозримо изложил» весь материал истории, лишь «использовав руку» нашего автора. Иными словами, можно предположить, что автор — один из ученых секретарей Константина, императора, известного своими антикварно-научными и литературными занятиями, и что именно этому секретарю была поручена обработка собранного василевсом материала. 41
Как уже отмечалось, автором «Жизнеописания Василия», согласно лемме, был сам Константин Багрянородный, хотя столь категоричное утверждение леммы не может не вызвать и определенных сомнений. Дело в том, что сам Константин в тексте «Жизнеописания» кое-где упоминается в третьем лице и к нему обращены неумеренные восхваления.
Время составления I—V книг — период единодержавного правления Константина VII Багрянородного (945—959 гг.), впрочем, некоторые данные заставляют предположить, что текст подвергся определенной редакции в более позднее время (см. с. 303, прим. 107).
Давно было замечено, что последняя, шестая, книга тоже не представляет собой единого произведения и, вероятно, написана двумя разными авторами. Ее первая часть (до рассказа о смерти и погребении низложенного Романа Лакапина в 948 г.) почти текстуально пересказывает редакцию В хроники Симеона Логофета и была составлена, видимо, в период царствования Никифора Фоки, поскольку называет его императором, а преемника Никифора Иоанна Цимисхия упоминает в качестве частного лица (см. с. 320, прим. 57). Вторая часть шестой книги, неожиданно обрывающаяся [219] на рассказе об эпизоде 961 г., явно написана каким-то современником событий и полна личных наблюдений и эмоций. Написана она, возможно, еще до 963 г., ибо, сочувственно отзываясь о Никифоре Фоке, ни разу не именует его императором. 42
Начиная с прошлого столетия не прекращаются соблазнительные попытки предложить на роль редактора свода или автора отдельных его частей известного деятеля Х в., мистика (доверенного секретаря) императора Константина Багрянородного, эпарха Константинополя Феодора Дафнопата. Этот Дафнопат, упомянутый и в нашем тексте (с. 194), был автором нескольких дошедших до нас сочинений и, что самое важное, написал, по свидетельству Иоанна Скилицы, не сохранившееся историческое произведение, 43 которое, видимо, сам Скилица и использовал. Все части «Хронографии» Продолжателя Феофана, включая даже принадлежащую Константину Багрянородному пятую книгу, разные ученые в разное время приписывали Феодору Дафнопату. 44 Уже это разноречие не позволяет сколько-нибудь определенно говорить о роли этого чиновного писателя в составлении свода Продолжателя Феофана. Подводя итог дискуссии, Г. Хунгер говорит, что в гипотезе об авторстве Дафнопата «кое-что есть» («hat einiges fur sich»). 45 Вряд ли при нынешнем состоянии источников можно что-либо прибавить к этому сверхосторожному замечанию.
Три части нашего сочинения весьма различны по своему характеру и стилю. Нет необходимости останавливаться здесь на характеристике последней части. Это — типичная византийская хроника, и почти все, что говорилось о предшествующей хронографии, в той или иной степени к ней хорошо приложимо. 46 Вспомним: византийская литература отличается удивительным консерватизмом, однажды появившиеся формы не исчезают, а продолжают существовать чуть ли не до конца самой Византии! Тем более интересно обратиться к анализу первых двух частей, составляющих столь разительный контраст, и последней, шестой, книге, и всей предшествующей хронографии. [220]
Итак, первые пять книг нашего сочинения были написаны в середине Х в. при дворе Константина VII Багрянородного. Царствование этого императора занимает часть длительного исторического периода конца IX — начала XI в., нередко именуемого эпохой «македонского ренессанса». Наименование это столь же устойчиво в исторической литературе, сколь и лишено смысла по существу. Определение «македонский» происходит от названия правившей тогда «македонской династии», родоначальником которой был дед Константина Багрянородного Василий I.Что же касается «ренессанса», то под ним ученые понимают время восстановления античного знания и образованности, наступившее после веков «застоя» и «упадка». Впрочем, интерес к античной культуре в Византии периодически усиливался и возгорался, и «ренессансов» можно насчитать немало. Некоторые исследователи доводят их число до пяти.
Оставляя в стороне потерявший в этом контексте всякую определенность термин «ренессанс», отметим, что в середине Х в. продолжается подъем византийской культуры, начавшийся в первые десятилетия IX в. и сменивший так называемые «темные века» византийской истории. 47 Говоря о культурном подъеме, нельзя забывать, что речь в сущности идет о тончайшем слое константинопольской верхушки, главным образом государственных и церковных чиновников общим числом, вероятно, не более двух-трех тысяч человек, по уровню образования способных создавать и воспринимать литературные и ученые сочинения, писавшиеся на искусственно поддерживаемом и выученном ими древнем греческом языке. Именно этот слой создавала и воспроизводила весьма хрупкая система «высшего образования», базировавшаяся на частных, домашних «ученых кружках», 48 а с конца IX в. и на основанном кесарем Вардой и находившемся под эгидой двора так называемом «константинопольском университете». 49
Интересы писателей и ученых этой поры имели ярко выраженный антикварный и систематизаторский характер. В поисках «мудрости» деятели культуры той эпохи обращались главным образом к наследию поздней античности и ранней Византии и высказывали при этом подчас столько же рвения в коллекционировании всевозможных свидетельств древних авторов, сколь и непонимания «духа античности» (если только «понимание» мы можем приписать себе). Самым великим компилятором того времени был патриарх Фотий, самой великой его компиляцией знаменитая «Библиотека», или «Мириобиблион», — огромный свод из 279 статей, реферирующих, пересказывающих и частично цитирующих сочинения античных и [221] византийских, языческих и христианских авторов. В конце Х в. были составлены (мы называем только малую часть известных памятников) «Палатинская антология» — огромное собрание античной и византийской эпиграммы, своеобразный лексикон-энциклопедия «Суда», и то и другое истинные шедевры ориентированного на энциклопедическую компиляцию интеллекта.
Антикварный характер культуры, великое тщание в систематизации и собирательстве и в то же время удивительное отчуждение от духа античности заставило современного французского исследователя заменить термин «ренессанс» на несравненно более точный и содержательный в данном случае «энциклопедизм». 50
Одной из самых характерных фигур среди ученых-эрудитов и энциклопедистов был император Константин Багрянородный — «заказчик» первых четырех и автор пятой книги публикуемого произведения. Обширной ученой, литературной и собирательской деятельности Константина благоприятствовала сама судьба. Вряд ли он смог бы столько сделать «по ученой части», если бы все годы (по византийским масштабам достаточно долгие), в которые носил царскую корону, действительно занимался управлением государством. Сын императора Льва VI Мудрого и его четвертой жены Зои Карбонопсины, он родился в 905 г. Уже в младенческом возрасте Константин стал объектом политической борьбы и придворных интриг. Патриарх Николай Мистик, возмущенный «незаконным сожительством» императора Льва с Зоей, поставил условием крещения ребенка изгнание из дворца его матери, а когда Лев нарушил соглашение, запретил ему доступ в церковь. Брак Льва и Зои был освящен новым патриархом Евфимием 51, однако определенная тень «незаконнорожденности» осталась лежать на ребенке, делая его положение при дворе неосновательным и шатким. Уже пришедший к власти в 912 г. брат Льва Александр собрался оскопить Константина, чтобы навсегда преградить своему порфирородному племяннику путь к престолу. Возвращение из изгнания Зои Карбонопсины в 913 г. предоставило определенные гарантии безопасности девятилетнему царю, однако не смогло обеспечить ему на будущее реальной власти. Эту реальную власть получает вскоре энергичный полководец Роман Лакапин, выдавший в 919 г. за Константина свою дочь Елену. Для Константина начинаются долгие годы, когда он получал все предусмотренные церемониальным уставом почести, но оказался полностью отстраненным от государственных дел. И лишь после смерти Романа Лакапина в 945 г. сорокалетний Константин, обладавший номинальным царским достоинством уже в течение тридцати трех лет, наконец стал василевсом не только именем, но и на деле.
Вынести определенное впечатление об образе Константина VII на основании византийских источников непросто. Автор шестой книги Продолжателя [222] Феофана представляет читателю классическую соматопсихограмму Константина, отдельные элементы которой плохо сопряжены между собой (с. 193). Скилица и Зонара, свидетельства которых восходят к одному источнику, сурово бранят Константина как государственного деятеля, но прославляют его преданность наукам и привязанность к ученым людям. 52 В новой литературе не без оснований утвердился образ «ученого на троне», пренебрегающего практической государственной деятельностью и всецело занятого научно-литературными проектами. «Еще больше, чем у его отца Льва VI, ученый литератор брал в нем верх над государственным деятелем. Жадный до знаний книгочей, усердный исследователь с ярко выраженным интересом к истории, для которого научные и литературные занятия были единственной страстью, он жил больше в прошлом, чем в настоящем. Он интересовался политическими проблемами и даже военным искусством, однако интерес его, как и в любой другой области знаний, был чисто теоретическим», — пишет о Константине Багрянородном Г. Острогорский. 53 Этот портрет несколько стилизован и скорей навеян чтением трудов Константина, нежели отзывами о нем современников. Автор шестой книги Продолжателя Феофана, видимо, не без оснований говорит о знании Константином ремесел (с. 187). Курьезно отметить, что этот же автор в унисон со Скилицей и Зонарой свидетельствует о пристрастии Константина к вину (с. 323, прим. 41).
Длительное пребывание при дворе в почете, но без всяких реальных обязанностей и прав, легкость доступа к материалам библиотеки и архива, штат квалифицированных секретарей и, возможно, неудовлетворенное честолюбие — все это было хорошей предпосылкой для ученых и литературных занятий Константина. До нас дошло несколько крупных научно-литературных произведений ученого царя.
Выбирая для своих сочинений предметы нередко вполне практического свойства, Константин, как истинно средневековый ученый, трактует их чисто умозрительно. Сведения, которые он сообщает, почерпнуты не путем наблюдения и изучения, а благодаря чтению сочинений авторитетов. Такой характер имело прежде всего собрание исторических эксцерптов, где разделенные на тематические разделы содержатся фрагменты из старых исторических писателей. 54 В значительной мере умозрительный и систематизирующий характер имеют его историко-географический трактат «О фемах», 55 этнографический справочник и одновременно руководство по ведению внешнеполитических дел «Об управлении империей» 56 и сочинение, [223] известное под названием «О церемониях византийского двора». 57 В целом Константин Багрянородный, а вернее, возглавляемый им круг ученых секретарей, создал грандиозный свод византийской практической учености, равный которому не знает ни византийская, ни западная средневековая наука.
Из «ученого кружка» Константина Багрянородного вышли и пять первых книг публикуемого нами произведения. События, которые в этих книгах трактуются, происходили за многие десятилетия до рождения их авторов, и естественным желанием всякого внимательного читателя является выяснить, откуда писатели брали исторический материал, как и какими методами его обрабатывали. При отсутствии каких бы то ни было других данных задача эта могла бы оказаться вполне безнадежной, если бы до нашего времени не дошло полуанонимное сочинение, именуемое обычно «Книгой царей» Генесия, рассказывающее о тех же героях и в большинстве случаев тех же событиях, что и Продолжатель Феофана. Это сочинение, как явственно видно из его предисловия, тоже было написано по заказу Константина Багрянородного, хотя автор и приписывает себе в его создании гораздо больше заслуг, нежели наш автор. 58 Удивление, однако, вызывает не идентичность героев и материала (в конце концов речь в обоих произведениях идет об одном и том же времени), а поразительное сходство в структуре и деталях обоих сочинений. Зачем потребовалось Константину Багрянородному заказывать разным своим ученым помощникам два весьма сходных исторических труда? Предполагалось даже, что недовольный результатом усилий Генесия Константин велел вновь переписать историю. Эта гипотеза относится безусловно к числу фантазий, однако сравнение двух произведений действительно может дать немало интересного.
Исследователи уже немало потрудились для выяснения взаимоотношения обоих текстов. Впервые обратившийся к этой проблеме Ф. Хирш, 59 а вскоре после него Д. Бьюри 60 считали текст Генесия первичным, а «Историю» Продолжателя Феофана его переработкой и расширением. Несколько десятилетий эта гипотеза оставалась господствующей в науке, однако уже в 1934 г. А. Грегуар решительно объявил ее устаревшей. 61 Бельгийский [224] ученый явно торопился, в том же журнале Byzantion четверть века спустя публикуются статьи Ф. Баришича, поддерживающего и развивающего концепцию Бьюри-Гирша. 62 На тех же позициях стоит такой крупный знаток источниковедческих проблем, как П. Лемерль. 63
Отмежевавшийся от концепции Бьюри-Гирша А. Грегуар опирался на детальные сличения текстов обоих авторов, произведенные исследовательницами Вернер и Мишо (их работы остались неопубликованными), и полагал, что Продолжатель Феофана и Генесий пользовались общим источником. 64 Точку зрения А. Грегуара поддержал и развил А. Каждан. 65 Наличие общего источника казалось настолько самоочевидным для П. Карлин-Хейтер, 66 что исследовательница не считает нужным даже приводить какие-либо доказательства, будучи озабочена лишь поиском возможных источников этого не дошедшего до нас *ОИ (так отныне для краткости будем мы именовать гипотетический общий источник первых пяти книг Продолжателя Феофана и Генесия).
Оставшаяся третья возможность (Генесий использует текст Продолжателя Феофана) тоже не осталась без внимания ученых. А. П. Каждан, в принципе разделяющий концепцию А. Грегуара, делает исключение для пятой книги Продолжателя Феофана — жизнеописания Василия, принадлежащего самому Константину Багрянородному, которая, по мнению ученого, непосредственно составила основу для повествования Генесия. 67 Как можно понять из рецензии А. П. Каждана на статью П. Лемерля, не исключает ученый такой возможности и для остальных частей произведения. 68
Итак, три возможные гипотезы уже высказаны, они имеют поныне достаточно авторитетных защитников, и на долю современного исследователя остается лишь подкрепить новыми наблюдениями ту, которую он разделяет, и опровергнуть аргументы сторонников остальных.
Позволим себе, однако, не следовать скрупулезно за доводами своих предшественников из боязни заблудиться в массе аргументов и контраргументов, а попытаемся рассмотреть проблему в целом.
Прежде всего зададимся вопросом, какова на самом деле степень сходства между обоими памятниками на композиционном и лексическом уровнях. Чтобы выполнить первую задачу, мы нумеровали эпизоды в порядке [225] следования в сочинении Продолжателя Феофана, а затем представили их в той последовательности, в какой они встречаются у Генесия. 69 Вот результат.
Царствование Льва V:
4а, 5, 2, 3, 0, 46, 7, 8, 10, 9, 12, 11, 13, 17, 15;
царствование Михаила II:
2, 4, 10, (25.38-25.50), 9, 11, 13, 15, 16, (35.68-77), 18;
царствование Феофила:
2, 21а, 25г, 21в, 28б, 31, 28а, 28г, 28в, 25, 30, 23, 33;
царствование Михаила III:
1, 2, 5, 6, 7, 8. 12, 15, 13, 17, 18, 20, 21, 9, 22, 23, 25, 27, 29a, 29б;
царствование Василия I:
1, 2, 3, 6, 9. (78.42-79.47), 11, (79.53-79.68), (79.69-80.80), 176, (80.84-81.14), 27, 23a, 286, 28а, 236, (88.66—90.27), 36.
Конечно, приведенные схемы весьма условны. Деление связного текста на эпизоды и «подэпизоды» не может не быть субъективным, в некоторых случаях эпизоды занимают несколько страниц текста, в других — несколько строчек. И тем не менее в целом эти схемы дают представление о соотношении композиционного построения обоих произведений. Как видно, у Генесия почти нет эпизодов, не имеющих того или иного соответствия с текстом Продолжателя Феофана. Напротив, весьма многие эпизоды последнего ни в каком виде у Генесия не встречаются (все «пропущенные» цифры в наших схемах соответствуют именно этим имеющимся у Продолжателя Феофана, но отсутствующим у Генесия эпизодам).
Порядок следования эпизодов (и, следовательно, композиция!) «Царствований» Льва V, Михаила III и в меньшей степени Михаила II почти идентичен. В этих же биографиях у Генесия сохранены почти все эпизоды, встречающиеся у Продолжателя Феофана.
Более всего «пропусков» встречается у Генесия в «Царствованиях» Феофила и Василия I (во второй части). Там же — наибольшее расхождение в порядке следования эпизодов.
Гораздо меньше соответствий у авторов обнаруживается на лексическом уровне. Подчас приходится поражаться, как оба писателя, излагая одни и те же события, до деталей соответствуя друг другу в содержании и порядке следования материала, порой умудряются не употребить ни единого общего слова (за исключением, естественно, артиклей, предлогов [226] и т. п.). Единственный случай частых лексических совпадений на протяжении нескольких строк — конец биографии Василия I (ThG 352.1—6 = Gen. 91.29—32). И тем не менее лексические следы общности текстов, подобно знаменитому шилу, которого в мешке не утаишь, дают о себе знать.
Любопытно, однако, что лишь в редких случаях лексические совпадения оказываются полными. Большей частью речь идет об общих корнях при вариации частей речи, грамматических форм и т. д. Создается впечатление непроизвольности этих совпадений: авторы (или один из них?) читают (или слушают?) большие отрывки текста, а затем пересказывают их по памяти. Выскажем эту мысль пока в сверхосторожной форме, хотя перепутанный порядок следования эпизодов (в тех, естественно, случаях, когда их перемещение не диктовалось такими-то сознательными задачами писателя), казалось бы, тоже говорит в пользу такого предположения.
Однако какой из приведенных выше вариантов в состоянии наиболее удовлетворительно объяснить характер сходства между обоими текстами?
Теория Бьюри-Гирша, которую в недавнее время поддержали Ф. Баришич и П. Лемерль, представляется нам неприемлемой. Ведь текст Продолжателя Феофана примерно в два с половиной раза превосходит сочинение Генесия (примерное соотношение по объему 7:3) не только за счет новых эпизодов (их появление легко объяснить добавлением из других источников), но и благодаря сокращенной передаче Генесием эпизодов идентичных. Неправы Ф. Гирш и его сторонники, полагающие, что Продолжатель Феофана «расширяет» произведение Генесия за счет чисто словесного распространения текста. Продемонстрируем это лишь на одном примере, избранном к тому же достаточно произвольно: рассказе о дальнейшей судьбе свергнутого императора Михаила Рангаве и его родственников (ThC 19.15-20.21= Gen. 6.88-6.1).
У Продолжателя Феофана мы встречаем следующие детали, отсутствующие у Генесия: Михаил был отправлен в монастырь на остров Плата, получил монашеское имя Афанасий и прожил в монастыре 32 года, вместе с ним в ссылке находились его сыновья Евстратий и Никита (19.21—20.3), супруга же Михаила была сослана в монастырь Прокопии (20.9—10). Естественно, перед нами отнюдь не «словесное расширение» текста Генесия. Конечно, теоретически можно себе представить, что новые сведения были заимствованы из какого-то другого источника, известны Продолжателю Феофана по слухам или, наконец, попали из маргиналий какой-то утерянной ныне рукописи Генесия. Однако таким образом можно было бы, вероятно, объяснить один или несколько случаев, «новые» же детали у Продолжателя Феофана — явление настолько систематическое, что отметивший этот факт Ф. Баришич, дабы спасти свой тезис о первичности текста Генесия и вторичности Продолжателя Феофана, предлагает неловкое объяснение: Продолжатель Феофана де проверял и добавлял текст Генесия... материалом его же источников. 70 [227]
В этой ситуации казалась бы гораздо более естественной мысль о том, что «краткий» Генесий пересказывает «распространенного» Продолжателя Феофана. Однако и она не выдерживает критики. Уже давно замечено, что в ряде случаев Генесий более подробен и что даже в «сокращенных» частях систематически сообщает конкретные детали, отсутствующие у Продолжателя Феофана.
Те же причины, которые помешали нам признать в Продолжателе Феофана компилятора истории Генесия, не позволяют нам допустить и противоположную возможность («Жизнеописание Василия» никакого исключения в этом отношении не составляет).
Сторонники идеи «прямого взаимодействия» между текстами Продолжателя Феофана и Генесия могут сослаться на возможность заимствования нашими авторами сведений из посторонних источников или из устной традиции. Такие случаи наверняка имели место, но не они определили главное различие между произведениями.
Итак, воспользовавшись элементарным методом исключений, мы пришли к единственному оставшемуся и возможному объяснению: использованию нашими авторами *ОИ. Действительно, только эта гипотеза удовлетворительно интерпретирует взаимоотношение текстов обоих писателей. То, что Продолжатель Феофана и Генесий с различной степенью подробности и подчас разными деталями передают одни и те же эпизоды, оказывается вполне естественным, если представить себе (а иначе и быть не может!), что каждый автор берет из *ОИ «свое добро», причем отнюдь не обязательно то же самое, что и его коллега.
Наглядный в этом отношении пример — рассказ об экспедиции Насара в период царствования Василия I (ThC 302.1—305.17=Gen. 82,58—85.47). Близкое родство этих эпизодов у обоих авторов помимо почти полного совпадения содержания удостоверяется относительно частыми лексическими соответствиями. На фоне этой безусловной общности лишь заметной становится отсутствие некоторых деталей. По Константину Багрянородному, например, помогать «казни» дезертиров ромейского флота должен был Иоанн Критский (ThC 303.14 сл.). Насар, сжигающий сарацинские корабли, отдает избежавшие огня суда Мефонской церкви (304.11 ел.) (ничего этого нет у Генесия). У Генесия, напротив, имеется сообщение о численности экипажей сарацинских кораблей (83.94) и угрозах царя казнить не только ромейских дезертиров, но и их супруг, детей и родителей (84.30) (этих деталей нет уже у Константина Багрянородного).
Мы привели в качестве примера весьма близкие один другому эпизоды а обоих текстах. Однако степень сходства эпизодов бывает весьма различна, а подчас они фактически превращаются в разные версии. Характерный пример — рассказ об отношении Михаила III к конным ристаниям (ThC 197.10—199.7 = Gen. 72.47—73.55). И местонахождение эпизодов, и некоторые общие детали (Михаил занимается ристаниями во дворце вблизи храма св. Мамы, в его развлечениях участвует логофет Константин) выдают единое их происхождение. Однако все прочие детали в этих рассказах разнятся. У Генесия повествуется главным образом о том, как [228] любитель ристаний Михаил опрокинулся на колеснице и чуть не погиб, у Продолжателя же Феофана рассказывается, как никакие самые неотложные государственные обязанности не могли отвлечь царя от любимого развлечения. Другой пример явно родственных и в то же время весьма разнящихся эпизодов — рассказ о восстановлении иконопочитания Михаилом III (ThC 150.9-151.22 = Gen. 57.81-58.26).71 Повествование *ОИ, видимо, было достаточно богато фактами, чтобы дать основание для появления генетически родственных, но столь не похожих один на другой рассказов.
Теория общего источника неожиданно подтверждается и следующим наблюдением. Некоторые эпизоды, встречающиеся одновременно у Продолжателя Феофана и Генесия, находят определенное соответствие в пассажах из сочинений других историков и агиографов Х в. — Георгия Монаха, Продолжателя Георгия Монаха, Симеона Логофета в разных редакциях, Никиты (автора «Жития Игнатия») и др. Названные историки принадлежат к совсем иной хронографической традиции, нежели Продолжатель Феофана и Генесий. 72 Тем не менее какие-то точки пересечения между этими двумя хронографическими линиями в Х в. были. Не наше дело углубляться сейчас в решение этого вопроса, ясно только, что родственность пассажей Продолжателя Феофана, Генесия и, скажем, Георгия Монаха — это следствие генетической общности пассажей Георгия Монаха и *ОИ. Графически это взаимоотношение можно представить следующим образом.
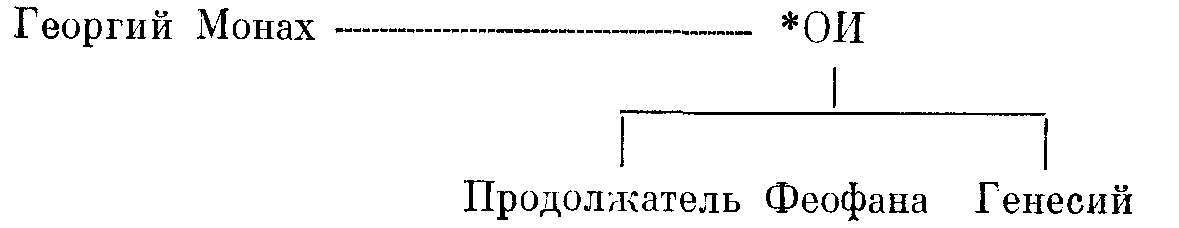
Пунктирная линия показывает, что характер связи не установлен (речь вообще, скорее, должна идти об общности отдельных эпизодов, генезис которой неясен). Как бы то ни было (и только это для нас сейчас важно!) отдельные пассажи упомянутых авторов дают какое-то представление о соответствующих эпизодах *ОИ. Теперь приведем лишь один из этих эпизодов в редакциях Георгия Монаха, Продолжателя Феофана и Генесия, при этом курсивом выделены слова, встречающиеся у Георгия Монаха и Генесия, разрядкой — у Георгия Монаха и Продолжателя Феофана, полужирным шрифтом — у всех трех авторов:
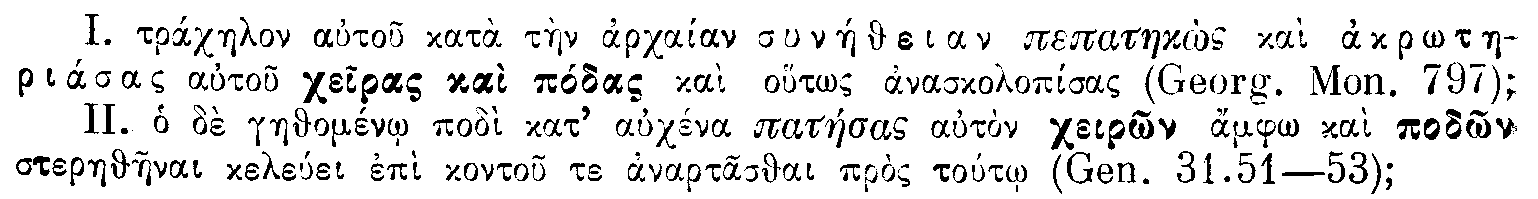
[229]
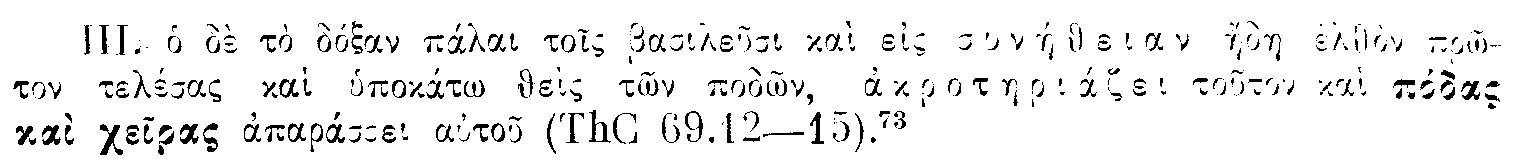
Как видно, результат рассмотрения лексики получился такой же, как и при анализе исторических деталей: некоторые слова *ОИ заимствованы обоими авторами, другие одним из них, третьи, видимо, были вовсе опущены. Без допущения существования *ОИ тут уже не обойтись вовсе. 74
Однако в чем причина того, что ряд генетически родственных эпизодов у Продолжателя Феофана и Генесия фактически превращается в разные версии? Оставим в стороне всегда существующую возможность заимствования сведений из каких-то посторонних источников, слухов, устной традиции и т. п. 75 Главная причина заключается, видимо, в способе, каким наши авторы (или один из них?) воспроизводили оригинал. Осторожное предположение об этом способе было высказано выше. Писатели прочитывали (прослушивали?) большие отрывки текста и затем лишь воспроизводили их по памяти. Новым доказательством именно такого метода работы наших авторов является анализ и классификация случаев расхождения исторических и других деталей между сочинениями Продолжателя Феофана и Генесия. Не беря на себя труд полностью перечислить все расхождения наших авторов, укажем только на некоторые, возникновение которых элементарно объясняется lapsus memoriae одного (или обоих?) из писателей, пересказывающих «без опоры на текст» большие пассажи *ОИ. Согласно Продолжателю Феофана, вскоре после убийства Михаила III ушла из жизни и предварительно постригшаяся царица Феодора. Василий I велел перевести останки Феодоры и ее дочерей в монастырь twn Gastriwn (ThC 174.10 сл.). У Генесия в соответствующем эпизоде в названный монастырь переведена была живая Феодора с дочерьми, где они и были пострижены (Gen. 64.84 сл.). «Верный» (т. е. соответствующий *ОИ) вариант находится по принципу избрания lectio difficillior. Виновник искажения, следовательно, — Генесий, представивший упрощенную версию и допустивший здесь, видимо, и ряд других отступлений от *ОИ.
Количество подобных примеров можно продолжать почти бесконечно. У Генесия в рассказе о Василии I Илья Фесвит предсказывает императорскую [230] власть младенцу Василию (Gen. 77.83 сл.). У Продолжателя Феофана Илью Фесвита мать Василия видит во сне (ThC 222.9 сл.). Опять-таки по принципу избрания lectio difficillior признаем последнюю версию лучше отражающей *ОН. Как это нередко случается, при устной передаче или при воссоздании событий по памяти происходит подмена субъекта пли объекта действия.
Весьма распространенным расхождением у наших авторов является включение тех или иных эпизодов и деталей в разный хронологический или логический контекст. Приведем простейший и один из весьма многочисленных случаев. Завершая рассказ о деяниях Феофила, Продолжатель Феофана сообщает о многочисленных стихийных бедствиях, происходивших в его царствование (ThC 137.18—22). Заметка эта с контекстом не связана и представляет собой очень частое в хрониках указание на грозные явления природы. Именно эта заметка является у Генесия в «заключительной характеристике» Феофила, где, однако, стихийные бедствия непосредственно сопрягаются с бесчинствами императора (Gen. 52.75— 53.80). Таким образом, Генесий создает логические связи, отсутствовавшие в *ОИ.
Любопытный пример «сдвига контекста» — рассказ об арабских войнах императора Феофила. Нетрудно подсчитать, что, согласно Продолжателю Феофана, Феофил провел пять кампаний против арабов. 76 Согласно Генесию, их было только две. 77 Последний опускает первую, вторую и четвертую кампании. Причем, начав рассказ о борьбе Феофила с арабами и имея в виду первую кампанию, Генесий фактически рассказывает о третьей. Естественно, что события у Генесия оказываются в совершенно иной связи между собой, нежели у Продолжателя Феофана. И здесь нужно предполагать, что Продолжатель Феофана ближе к *ОИ 78, ошибка же Генесия хорошо понятна, если принять во внимание тот способ, каким, как мы предполагали, перерабатывают наши авторы свой оригинал. После прочтения (прослушивания?) больших пассажей текста в памяти остаются факты и детали, а связи между ними как бы воссоздаются заново.
Такой способ воспроизведения прототипа зафиксирован в средневековой практике. 79 Об этом же свидетельствуют и наши наблюдения над методами работы Феофана Исповедника. 80 [231]
После того как мы привели соображения в пользу зависимости от *ОИ, попробуем сделать еще один шаг и попытаемся хотя бы в самых общих чертах реконструировать, что представлял собой *ОИ.
До сих пор высказывалось два предположения: 1) *ОИ представлял собой историческую хронику; 2) *ОИ был собранием черновых материалов, отдельных заметок, выписок, подготовленных императором Константином Багрянородным или его секретарями. 81
Не предрешая сейчас ответа на этот вопрос, постараемся восстановить в самом, естественно, общем виде контуры *ОИ и при этом будем исходить из само собой разумеющейся предпосылки, что все общее, свойственное нашим писателям, так или иначе восходит к *ОИ, а все их различия — результат авторской обработки оригинала или влияния посторонних устных или письменных источников.
Прежде всего, *ОИ не был разделен на «царствования» отдельных императоров, как сочинения Продолжателя Феофана и Генесия. В пользу такого предположения говорят два довода.
Раздел материала между отдельными царствованиями у наших авторов не совпадает в двух случаях из четырех. «Царствования» Михаила III и Василия I у Генесия в отличие от Продолжателя Феофана объединены в одну книгу. Основанием для такого объединения является, видимо, факт совместного правления в течение года обоих императоров. Так и Пселл в «Хронографии» объединяет царствование Зои, Феодоры и Константина IX Мономаха. По-разному разделены и «царствования» Льва V и Михаила II. У Генесия история воцарения Михаила II (Gen. 19.83—20.1) отнесена к царствованию Льва V, у Продолжателя Феофана — Михаила II (ThC 40.14-47.7).
Можно думать, что каждый автор самостоятельно делил на разделы сплошное повествование *ОИ. На эту же мысль наталкивает и другое наблюдение.
Как у Продолжателя Феофана, так и у Генесия изложение истории каждого царствования завершается «заключительной характеристикой» императора, своеобразной модификацией известного еще с античных времен elogium'a. Любопытно, однако, что при совпадении почти всего остального материала нет ни одного случая соответствия между собой «заключительных характеристик». 82 Самое вероятное объяснение: в *ОИ этих «заключительных характеристик» не было вовсе, они созданы самостоятельно каждым из наших авторов для композиционного завершения новых единиц повествования — «царствований». Их в *ОИ и не могло быть, поскольку в сплошном повествовании для них не оставалось места...
Анализ «заключительных характеристик» наталкивает и на другой вывод, касающийся уже вопроса о том, какой из имеющихся в нашем распоряжении [232] текстов (Продолжателя Феофана и Генесия) ближе к *ОИ. Речь прежде всего идет о том, сокращает ли «краткий» Генесий *ОИ или, напротив, расширяет его новыми данными «распространенный» Продолжатель Феофана. Если «заключительные характеристики» Продолжателя Феофана, как правило, представляют собой действительно обобщающие замечания о свойствах, нраве героя, то гораздо менее умелый Генесий чаще всего монтирует их из кратких сообщений о тех или иных поступках, видах деятельности и т. п. героя. Причем эти сообщения в подавляющем большинстве случаев содержатся в основном повествовании Продолжателя Феофана. 83 Иными словами, многие данные *ОИ Генесий в процессе рассказа опускает, хотя и пользуется ими (в весьма сокращенном виде!) для построения «заключительной характеристики».
Итак, Продолжатель Феофана гораздо более полно передает *ОИ, нежели Генесий. К аналогичному выводу приходили мы и раньше: в большинстве приведенных выше примеров «искажения» *ОИ мы вменяли в вину Генесию...
Можно попытаться поставить вопрос и о том, который из двух авторов ближе к *ОИ в стилевом и языковом отношении. Проблема эта несомненно трудная, поскольку, как отмечалось, лексические совпадения весьма немногочисленны и кратки. Тем не менее и здесь кое-какие косвенные данные дают основания для заключений.
Решению вопроса о том, кто ближе в стилистическом и языковом отношении к *ОИ — Продолжатель Феофана или Генесий, мог бы помочь какой-нибудь третий текст, так или иначе восходящий к *ОИ (аналогичным образом привлекали мы выше пассажи из Георгия Монаха). Такого «третьего» текста не существует, однако его роль могут сыграть кое-какие дублеты у Продолжателя Феофана, вернее, совпадения пассажей у автора первых четырех книг Продолжателя Феофана и у Константина Багрянородного в «Жизнеописании Василия».
Повествуя о царствовании Михаила III, Продолжатель Феофана и Генесий сообщают историю назначения шутовского патриарха Грипа и рассказывают о бесчинствах его и его свиты (ThC 200.15—202.4 = Gen. 73.56—66). Генетическая близость рассказов сомнения не вызывает, их положение на идентичном месте у обоих авторов непреложно свидетельствует о том, что эпизоды восходят к *ОИ. По этот же эпизод (уже в третьей редакции, но опять-таки восходящей к *ОИ) встречается и в жизнеописании царя Василия (ThC 244.3—247.15). Логично предположить, что сходные между собой рассказы будут наиболее полно отражать версию *ОИ. Сходными же оказываются сообщения Продолжателя Феофана и Константина Багрянородного, живостью, эмоциональностью, образностью изложения и обилием деталей отличающиеся от краткого и сухого пересказа Генесия.
Аналогичным образом сохранились три редакции и эпизода убийства Кесаря Варды в Кипах, 84 и хотя в данном случае лексических совпадений [233] у Продолжателя Феофана и Константина Багрянородного почти нет, их стиль и характер передачи сцен и здесь резко отличаются от суховатого рассказа Генесия.
Думается, что к *ОИ можно возвести и аналогичные пассажи ThC 208.18— 21 = ThC 250.21—251.2. Конечно, основанному на трех примерах нашему выводу можно и не придавать универсального значения (не исключено, что в каких-то отрывках Генесий оказывается ближе к *ОИ, нежели Продолжатель Феофана), тем не менее и у нас была уже возможность в этом убедиться, стилистика — не единственный аспект, в котором Продолжатель Феофана теснее примыкает к своему источнику.
Попробуем теперь ближе представить себе композицию гипотетического *ОИ. Обращает на себя внимание тенденция наших писателей и особенно Генесия приводить по две версии одного и того же эпизода. Наличие двух версий каждый раз четко отмечается писателями. Порядок расположения этих версий может быть одинаков (например, рассказы о битвах Льва V с болгарами, 85 история Феофоба), 86 а может и разниться (например, рассказы о Фоме Славянине). 87
«Перепутанность» версий — результат того же метода воспроизведения больших пассажей текста оригинала, о котором говорилось выше. В приведенных примерах обе версии встречаются в том и другом сочинении. Имеются, однако, случаи, когда две версии дает только Генесий, а Продолжатель Феофана контаминирует их в одну. 88 При такой ситуации естественно более близким к оригиналу оказывается Генесий, а видоизменяет композицию *ОИ Продолжатель Феофана. Как бы то ни было, наличие двух версий в *ОИ сомнений не вызывает. Любопытны также случаи, когда в тексте одного из авторов обнаруживаются как бы «отдаленные отзвуки» иной версии, существование которой подтверждается другим писателем.
Вот примеры. Когда будущий царь Василий проводил ночь у монастыря св. Диомида, «какому-то монаху, — пишет Генесий, — или, как некоторые утверждают, самому настоятелю привиделся сон...» (Gen. 77.86—87). Оборвем цитату на середине, в данном случае важно только, что Генесию известна версия, будто сон привиделся не монаху, а настоятелю монастыря. Именно такой вариант и передает в соответствующем месте Продолжатель Феофана (ThC 223.15). [234]
А вот противоположный случай. Продолжатель Феофана, сообщая о том как Варда заключил Игнатия в тюрьму, добавляет, что тюрьма эта располагалась при храме св. Апостолов, но не «в великом и почитаемом, а в том, где находятся гробницы...» (ThC 193.21—194.1). Но как раз о «знаменитом храме св. Апостолов» в соответствующем пассаже и идет речь у Генесия (Gen. 71.10—11).
Создается впечатление, что *ОИ, к которому несомненно восходят эти двойные версии, содержал параллельные рассказы об одном и том же событии, выписанные, вероятно, из разных источников. То, что *ОИ в какой-то своей части состоял из выписок из различных источников, как будто подтверждается и тем фактом, что в повествовании наших авторов содержатся цельные и композиционно законченные рассказы, наиболее ярким примером которых является эпизод с Феофобом. Рассказанный Генесием целиком (Gen. 37.4—43.3), он разделен у Продолжателя Феофанана три части (ThC 110.5—112.8; 124.16—125.15; 135.16—136.23). Ясно, что в *ОИ эпизод также был рассказан целиком (обратный процесс «сборки» рассказа из деталей представить невозможно!). Более смелые предположения о характере этих содержавшихся в *ОИ выписок вряд ли уместны.
Приведенные факты как будто наталкивают нас на уже высказанное утверждение, что *ОИ представлял собой не законченную и оформленную хронику, а подготовительные материалы, определенный набор выписок из разных источников. Но в категоричной форме такое утверждение вряд ли приемлемо. Не было бы ничего странного, если бы «набор выписок» был расположен в *ОИ в хронологическом порядке, которому бы и следовали наши авторы. Дело, однако, в том, что встречаются случаи, когда оба писателя в одном и том же месте, нарушая хронологический порядок, отступают в своем повествовании назад или забегают вперед. Эти отступления — несомненное отражение подобных же отступлений *ОИ, свидетельство определенного композиционного искусства и даже изощренности автора или авторов *ОИ. Так, приближаясь к рассказу о том, как Лев V взял в свои руки царскую власть, Продолжатель Феофана декларирует, что он возвращает повествование назад (ThC 21.5), дабы поведать о причинах, приведших к смене власти. Рассказав же о них, Продолжатель Феофана опять-таки весьма четко отмечает конец отступления («... однако же возвратимся вновь к истории» — ThC 23.17). В соответствующем месте сочинения Генесия обнаруживается не менее отчетливо композиционно выделенное отступление (Gen. 6.2—9.94). Хотя Генесий включает в это отступление материал большего объема, нежели Продолжатель Феофана, это сейчас не суть важно, очевидно, что такое же отступление содержалось и в *ОИ.
Из того же «царствования» Льва можно привести пример еще более изысканной организации материала, свойственной тому и другому памятнику и, следовательно, восходящей к *ОИ. Рассказав о победе Льва V над болгарами в 813 г., Продолжатель Феофана заявляет, что этот успех ужесточил нрав царя, который обрушил на подданых суровые кары (ThC 25.20). После этого следует рассказ о жестокостях Льва. Такой способ сцепления [235] эпизодов через личность героя (события изменяют прав героя, это изменение нрава приводит к новым акциям) достаточно сложен и неожидан для Х в. Скорее, подобный поворот можно ожидать в следующем XI столетии от гениального Михаила Пселла. 89 Тем интересней, однако, встретить в соответствующем месте произведения Генесия точно такое же сочленение материала (Gen. 13.83), свидетельствующее о происхождении его из *ОИ.
Мы пришли, казалось бы, к трудно совместимым выводам: с одной стороны, *ОП представлял собой набор выписок, сырой «материал для истории», с другой стороны, *ОИ был историческим произведением, скорее всегв, хроникой с достаточно сложными композиционными ходами. Думается, однако, что эта несовместимость мнимая. Во всяком случае, в предшествующей византийской исторической литературе известно произведение, в котором упорядоченное изложение исторической хроники сочетается в ряде мест с набором выписок из разных источников (при этом нередко об одном и том же событии). Мы имеем в виду упомянутую уже «Хронографию» Георгия Синкела, учителя и наставника Феофана Исповедника, непосредственным продолжением сочинения которого являются произведения наших авторов.90
* * *
Уже из сравнения первых пяти книг Продолжателя Феофана и «Книги царей» Генесия можно видеть, что оба сочинения, во всяком случае, по формальным признакам продолжают традицию византийской хронистики, о которой говорилось в первой части статьи. Дело не только в том, что писатели продолжают историю Феофана, в свою очередь продолжавшего «Хронографию» Георгия Синкела, и таким образом включают свой труд в цепь всемирного историописания. Сам метод их работы — пересказ сочинения предшественника (так называемого *ОИ) — типичен для средневекового хрониста.
Тем не менее уже при сравнении с Генесием начали выявляться черты, отличающие сочинения Продолжателя Феофана от среднего уровня византийской хронистики. Об этих «отличительных чертах», которые одни только и являются показателем литературного и исторического прогресса, и пойдет речь далее.
Определенные изменения можно отметить у Продолжателя Феофана в представлениях о двигательных силах и мотивах как исторического движения, так и поведения индивидуального человека. Конечно, писатель полностью разделяет идеи своих предшественников о Боге, «отвечающем» на «вызовы» человека и определяющем его судьбу. Эта концепция — «общее место», основа основ христианского мировоззрения и как таковая подвержена минимальным изменениям во времени и пространстве. Как и у его предшеетвенников, божественное провидение у Продолжателя Феофана [236] полностью направляет течение исторических событий, определяет судьбы и в конечном счете поступки людей. И тем не менее отдельные нюансы достойны внимания.
Прежде всего обратим внимание на некоторые прямые высказывания автора, вряд ли возможные для его предшественников. Собираясь приступить к рассказу о передаче власти Михаилом Рангаве Льву Армянину, писатель заявляет: «Вернем назад повествование и исследуем причину, побудившую их, будто по согласию, Михаила — вовсе отказаться от борьбы за царство, а другого — Льва, напротив, решительно и дерзко его добиваться. Ибо истинным образованием и наставлением в делах государственных я полагаю умение вскрывать причины как очевидные, так и сокрытые, без которых любая историческая книга, не знаю уж какую, может принести пользу» (с. 13).
Причины, побудившие Михаила и Льва поступать так, а не иначе, о которых рассказывается далее, — главным образом прорицания и божественное откровение. Но суть дела от этого меняется мало: Продолжатель Феофана четко сформулировал свое credo — идею причинной взаимозависимости событий и необходимости ее раскрытия для историка. Совершенно аналогичный смысл имеет и другое высказывание Продолжателя Феофана, содержащееся уже в разделе об императоре Михаиле III: «Воистину пусто и легковесно тело истории, если она умалчивает о причинах деяний» (с. 74).
Продолжатель Феофана не только декларирует, но в ряде случаев и действительно стремится к установлению каузальных связей, причем не обязательно всегда только в области божественной и провиденциальной. Наиболее яркий в этом отношении пример — рассказ об испанских арабах, покинувших свою родину в поисках новых мест обитания из-за скудости своей земли и ее большой перенаселенности. 91 Подобные декларации и начатки исторического детерминизма вовсе немыслимы в сочинениях хронистов прежних веков.
Ни Константин Багрянородный, ни неизвестный сочинитель первых четырех книг Продолжателя Феофана не «создавали системы» и не стремились согласовать между собой концепции провиденциализма и детерминизма. Вряд ли и современный исследователь обязан что-то додумывать за средневековых авторов и с высокомерием сына XX в. в очередной раз устанавливать мнимые противоречия в мировоззрении чего-то не додумавшего и чего-то не понявшего писателя. Обе концепции находились как бы на разных уровнях сознания, существовали «не перекрещиваясь» одна с другой.
Хотя Продолжатель Феофана, конечно, полностью и не осознает противоположности этих концепций, тем не менее в некоторых случаях, оказываясь перед необходимостью предложить объяснение историческим событиям, сопоставляет обе возможности, пребывая в сомнениях, какой из них отдать предпочтение. Вот один из примеров. «Полководец..., — [237] пишет аноним, — терпел поражения, то ли не хватало ему ума-разума и неопытен он был в ратном деле... а может быть, по причине, которая выше нас».
Сами колебания автора в данном случае знаменательны. Его предшественники и современники, о которых шла речь, как правило, ни в чем не сомневались.
Как уже отмечалось, Продолжатель Феофана вообще — «сомневающийся» писатель, часто не знающий, какой исторической версии ему отдать предпочтение, и потому приводящий их все. Это позволило исследователям говорить о зачатках исторической критики у писателя.
Однако новые и неожиданные для византийской хронистики качества прежде всего сказываются в художественной структуре сочинения «Продолжателя Феофана», в его композиции. Об одной особенности композиции Продолжателя Феофана уже говорилось. «Сплошной» текст повествования *ОИ писатель делит на отдельные главы, посвященные разным героям-императорам. При этом Продолжатель Феофана неоднократно ссылается на предыдущие и последующие разделы (книги) своего труда, именуя их то bibloV или biblion (ThC 84.16, 174.16), то suntagma (р. 40.15), то istoria (р. 83.16). Относительная завершенность разделов еще более подчеркивается наличием в конце каждого из них заключительной характеристики героя, своеобразной модификации традиционного античного elogium'a, о котором уже говорилось. Тенденция создать в каждой книге композиционно завершенное повествование не только свидетельствует о стремлении писателя поставить в центр рассказа личность императора, но и дает нам право анализировать каждый раздел как законченный и самодостаточный текст.
Разговор об их композиции мы начнем с двух первых книг, посвященных царствованиям Льва V и Михаила II, дабы затем посмотреть, насколько универсальны и общезначимы для Продолжателя Феофана принципы их построения. Нет сомнения в субъективном стремлении историка построить свой рассказ в хронологической последовательности. Историк явно не знает времени свершения многих событий, путает их последовательность, тем не менее твердо убежден в необходимости хронологического порядка. Особенно четко это стремление проявляется, когда оно приходит в явное противоречие с другой особенностью писателя — его подчеркнутой любовью к историческому эпизоду и исторической детали. События для нашего автора — уже не материал для заполнения пустых ячеек в хронологической сетке (как для Феофана, например), а приобретают самоценное достоинство. Продолжатель Феофана в отличие от большинства хронистов и значительно чаще, чем Генесий, «с удовольствием» останавливает течение рассказа, возвращает его назад, дабы поведать об истоках того или иного события, рассказать подробно о нем самом и, наконец, сообщить о его последствиях. Как правило, не забывает Продолжатель Феофана сообщить о дальнейшей судьбе упомянутых им людей (10.19, 76.9, 72.2 и др.), четко отметить окончание эпизода (78.1, 81.1, 83.13 и др.).
В точках пересечения этих противоположно направленных тенденций плавное течение рассказа нарушается и восстановлено может быть лишь [238] волевым авторским вмешательством в текст. «Вернемся к истории», «но об этом расскажем позже» — такими и подобными им замечаниями пестрят разбираемые книги Продолжателя Феофана (см., например, ТЬС 21.14, 23.18, 47.15, 49.19 и др.).
Говоря о стремлении Продолжателя Феофана к хронологическому изложению, надо помнить, что время для него в отличие от многих других хронистов — не непрерывная линия, соединяющая две временные точки — начала и конца повествования, — а, скорее, некая последовательная сумма «отрезков» (периодов правления отдельных императоров), в начале и в конце нередко накладываемых один на другой. Интересно в этом отношении еще раз сравнить способ переработки *ОИ Продолжателем Феофана, и Генесием. Если последний часто сохраняет структуру *ОИ, то наш писатель стремится превратить повествование в сумму рассказов биографического характера, ограниченных рождением (или восшествием на престол) и смертью императора. Наиболее отчетливо проявляется эта тенденция в разделе, посвященном Льву V. Как можно догадаться, гипотетический *ОИ начинался, как и положено хронике с «нормальной структурой», с воцарения Льва, а предыстория императора сообщалась в отступлении. Именно такую структуру и сохраняет Генесий. Продолжатель же Феофана биографически «выпрямляет» рассказ, начинает с происхождения родителей героя, сообщает о захвате власти и затем хронологически последовательно повествует о жизни Льва и событиях его царствования. Все сведения о происхождении и ранних годах Льва, рассеянные у Генесия (и, видимо, в *ОИ) по всему повествованию, концентрируются Продолжателем Феофана в начале рассказа, так сказать, на своем хронологическом месте. 92 Таким образом, исторический материал *ОИ подвергается переаранжировке в угоду биографическому принципу. Не исключено, что следы подобной же переаранжировки сохранились и в следующем разделе, о Михаиле II. Хотя часть эта и начинается с воцарения Михаила, однако сразу же после этого сообщения у Продолжателя Феофана рассказывается о происхождении и воспитании Михаила (ThG 42.7— 44.11). У Генесия подобного рассказа нет, тем не менее его рудименты сохранились в конце раздела об этом императоре (Gen. 35.68), и можно, следовательно, думать, что рассказ этот содержался в *ОИ. У Продолжателя Феофана он опять-таки оказался на своем «хронологическом месте».
Раздробив историю на серию разделов, посвященных отдельным императорам, Продолжатель Феофана — и это вполне закономерно — оказался в зоне притяжения другого жанра, который часто взаимодействовал с историографией, — риторики. 93
В риторике издавна, с античных времен, культивировались литературные формы, предназначенные для похвалы (энкомия), или, напротив, поношения (псогос) персонажей. Характерной чертой всех видов этих риторических [239] биографий была строгая рубрицированность их композиции. Стабилизировавшаяся уже в поздней античности схема (например, Афтония) предписывала упорядоченное следование определенных сведений о герое, перечисление жестко фиксированных его качеств. Нетрудно заметить, что в главных своих элементах рубрики Афтония выдерживаются в двух первых книгах «Хронографии» Продолжателя Феофана. Покажем это с помощью простой схемы. 94
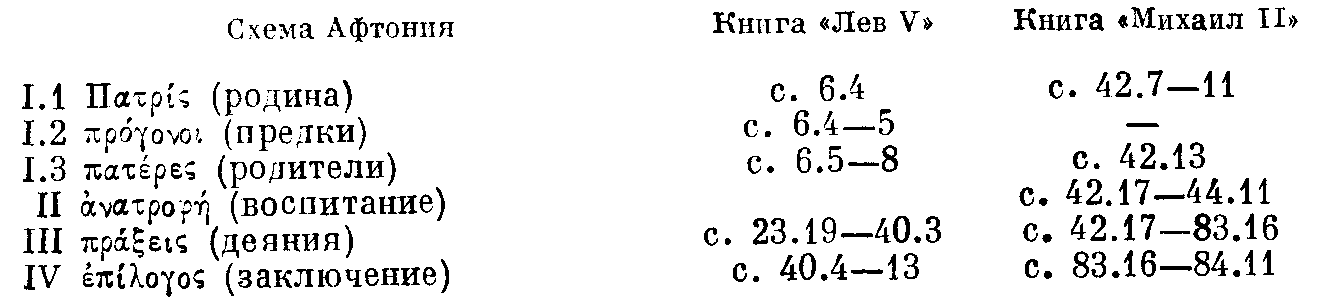
Одни структурные элементы риторической схемы существуют у Продолжателя Феофана в рудиментарном виде (например, patereV в разделе о Михаиле II), другие (например, anatrojh) в той же книге) развиты достаточно хорошо, в целом же структурная схема энкомия — псогоса проступает в обоих случаях достаточно явственно.
Вряд ли следует думать, что Продолжатель Феофана сознательно и целенаправленно применял риторическую схему к своему повествованию. Многократно повторяемая в панегирических речах и энкомиастических житиях, она «жила в сознании» любого образованного византийца и в любой момент «готова была» облечь формой пригодный к тому литературный материал. 95
Хронологическое следование и риторические структурные элементы — не единственные скрепы, соединяющие отдельные эпизоды в связное историческое повествование Продолжателя Феофана. Очевидное композиционное значение в разбираемых книгах имеет и идея провидения. Сама эта идея, конечно, не нова в византийской исторической литературе. Однако, кажется, впервые она начинает играть столь важную композиционную роль. Судьба Льва V и Михаила II предопределены заранее. [240]
Заранее предсказано их восшествие на престол, их смерть — расплата за нечестие и иконоборчество. Демонстрация этого — главная цель повествования Продолжателя Феофана. Однако карающая десница опускается на головы грешников не сразу. Между предсказанием и свершением, проступком («вызовом») и наказанием («ответом») проходит время, наполненное суровыми знамениями, 96 и именно это создает сюжетную напряженность и определенный драматизм повествования. Внимание читателя уже не концентрируется на хронологически распределенных событиях (как при чтении, например, «Хронографии» Феофана Исповедника), а поддерживается ожиданием исполнения предсказанного или наступления неминуемой расплаты. Таким образом, появляется у Продолжателя Феофана нечто вроде сюжета, движимого, правда, не человеческими взаимоотношениями, но божественной волей. В этом «сюжете» имеются свои опорные точки или, если угодно, сквозной мотив, поддерживающий развитие действия. Роль такого сквозного мотива в разбираемых разделах играет пророчество монаха из Филомилия. Впервые мотив этот появляется в самом начале раздела о Льве V, когда знатный вельможа Никифора I Вардан, стремясь к царской власти, посещает некоего монаха из Филомилия. Последний, однако, пророчит царство не ему, а находящимся в его свите Льву и Михаилу (с. 7 сл.). Происходит, так сказать, «завязка сюжета». Пришедший к власти Лев желает отблагодарить монаха, однако тот к тому времени успел умереть, а живущий в его доме некто Симватий убеждает Льва отказаться от иконопочитания, т. е. совершить главный проступок его жизни, за который и должен он понести расплату. Таким образом, «трагическая вина» Льва тоже, хотя и косвенно, связана с образом монаха из Филомилия. Дважды еще на протяжении рассказа о Льве вспомнит Продолжатель Феофана о предсказании этого монаха (с. 19, 20), дабы не позволить читателю забыть о провиденциалистском характере всего происходящего. Интересно, что мотив монаха из Филомилия не завершается в разделе о Льве V, а переходит в следующий, посвященный Михаилу II. Последний решается на узурпацию власти, лишь вспомнив об упомянутом пророчестве (с. 24). Страшась исполнения прорицания, решается выступить против Михаила и Фома Славянин (с. 26). Таким образом, сквозной мотив прорицания монаха из Филомилия создает дополнительные композиционные связи в разбираемых книгах «Хронографии» Продолжателя Феофана.
Итак, три основных композиционных приема удается вычленить при анализе построения двух первых книг сочинения Продолжателя Феофана: элементарную хронологическую последовательность, риторическую рубрикацию и, наконец, сквозной мотив, определенный идеей провидения. Такого сочетания мы не встречали в предшествующей византийской историографии. Но насколько оно оригинально, не заимствовано ли такое построение из *ОИ, о котором шла речь выше, тем более что композиция этого *ОИ, видимо, отнюдь не отличалась элементарностью? (см. с. 234 сл.). Попытаться ответить на этот вопрос можно, только вновь сравнив текст Продолжателя [241] Феофана с соответствующими разделами «Книги царей» Генесия. Не станем говорить о хронологическом следовании: стремление к нему, во всяком случае, декларативное, — общее место любых историографических сочинений. Что касается второго приема, то и следа его не удается обнаружить у Генесия. Как уже говорилось, сведения о родине (patriV), роде (genoV), родителях (patereV), воспитании (anatrojh), составляющие непременный структурный элемент энкомия — псогоса и находящиеся у Продолжателя Феофана, где им и положено быть, в начале, разбросаны у Генесия по всему произведению. Можно думать, что Продолжатель Феофана переаранжировал этот материал и расположил его в соответствии с риторическими правилами. Идея провиденциализма и связанный с нею сквозной мотив монаха из Филомилия имеются и у Генесия, и, следовательно, были заключены и в *ОИ. Знаменательно, однако, что у Продолжателя Феофана сей монах упоминается шесть раз, в то время как у Генесия всего три. Сюжетообразующую роль провидения у Продолжателя Феофана можно было показать на ряде примеров. Ограничимся одним: у Генесия, как и у Продолжателя Феофана, за характеристикой Льва следует рассказ о свержении этого императора Михаилом (Gen. 15.44 cn. == ThC 33.12 сл.). Однако если у Генесия — простое хронологическое примыкание эпизодов, то у Продолжателя Феофана свержение Льва представляется как закономерное возмездие за ересь нечестивому Льву.
Третья книга «Хронографии» Продолжателя Феофана композиционно весьма отлична от соответствующих разделов «Книги царей» Генесия. В ней много эпизодов, которых у Генесия нет вовсе, а те, что совпадают, нередко следуют у двух авторов в разном порядке (см. с. 227). Индивидуальное творческое начало в построении произведения, видимо, проявляется здесь весьма отчетливо. Но в чем же своеобразие композиции этого раздела?
Оба произведения начинаются с одного эпизода, в котором только что провозглашенный император устраивает собрание знати в Магнаврском дворце, где с помощью умело задуманной провокации избавляется от потенциальных заговорщиков (ThC 85.6— 86.8 = Gen. 36.82—93). На этом следование *ОИ кончается, и Продолжатель Феофана дает серию эпизодов, за некоторым исключением не находящих аналогии у Генесия. 97 Все эти эпизоды — расположенные без всякого хронологического порядка сообщения о деяниях Феофила во внутригосударственной сфере или же о его человеческих привычках и свойствах. Вот их перечень. 98 1. Справедливость Феофила (85.1—94.18). 2. Строительная деятельность (94.19— 99.3). 3. Отношение к иконодулам (99.4—106.11). 4. Любовь к церковному пению (106.17—107.5). 5. Запрещение носить длинные волосы (107.6— 13). 6. Забота о дочерях (107.14—109.16). По сути дела они представляют собой не что иное как «деяния» (praxeiV), непременную часть риторических [242] биографий, уже встреченную нами при анализе предшествующих книг сочинения Продолжателя Феофана. Нарочито игнорирующие всякую хронологию, подобранные по эйдологическому принципу эпизоды эти, видимо, извлечены Продолжателем Феофана из иных частей *ОИ или даже заимствованы им «со стороны» и использованы для характеристики Феофила и его внутригосударственной деятельности. Следующая часть — praxeiV, в основном совпадающая с Генесием, и следовательно, перешедшая из *ОИ, уже имеет предметом внешнеполитическую историю. Прежде чем приступить к ней, приведем еще одно наблюдение. Лишив эпизоды хронологической связи, Продолжатель Феофана отнюдь не оставил их без всякого сочленения. Приведем два примера. Писатель рассказывает о строительной деятельности Феофила и между прочим сообщает, что последний, выселив из зданий блудниц, построил на освободившемся месте странноприимный дом. Так вот он обращался с блудницами, продолжает писатель, впрочем, сам был покорен чарами служанки Феодоры (следует рассказ о небольшой интрижке царственного героя). Феодора снисходительно простила увлекшегося супруга, и Феофил соорудил новый дворец для своих дочерей (с. 44). Продолжается рассказ о строительной деятельности.
А вот другой случай, тоже касающийся Феодоры. Историк повествует о справедливости и нелицеприятности Феофила и приводит в качестве примера случай, когда царь велел сжечь корабль, принадлежавший его супруге, затем следует рассказ о самой Феодоре и ее родителях, далее повествуется о матери Феодоры Феоктисте, тайно от царственного зятя приобщавшей внучек к иконопочитанию, аналогично вела себя и сама Феодора (с. 43). Повествование вновь возвращается к теме справедливости Феофила.
Оба приведенных случая аналогичны. Перед нами типичное ассоциативное (или, скорее, тематически-ассоциативное) сочленение, когда рассказанный эпизод вызывает в памяти писателя другой аналогичный случай дли рассказ и повествование движется вперед не по временному и не по какому иному принципу, а по подобию и сопричастности материала. Отклонившись от главного пути, повествование, переливаясь из одного эпизода в другой и описав дугу, возвращается в конце концов на основную магистраль (справедливость — во втором примере и строительная деятельность Феофила — в первом). Этот метод по сути своей противоположен следованию жесткой временной схеме (как у Феофана), его появление — свидетельство раскованности мысли или, если угодно, воображения историка, следующего в рассказе своем не строгим предписаниям извне накладываемой схемы, а комбинирующего материал в зависимости от сиюминутных, иногда случайных и, во всяком случае, достаточно свободных ассоциаций. Знаменательно, что «раскованность», «свобода» композиции оказываются характерными для той части сочинения, где Продолжатель Феофана, видимо, отходит от своего источника.
Следующая заимствованная из *ОИ часть «деяний» (praxeiV), в противоположность предыдущей, строится по хронологическому принципу. Неважно, что Продолжатель Феофана имеет весьма смутные представления [243] о хронологии, что пересказывает свой источник, скорее всего, по памяти и к тому же не очень точно: автор явно стремится построить повествование по временной схеме. Основу рассказа составляют пять последовательных походов императора Феофила против арабов, между которыми располагаются отдельные сообщения, сочлененные с окружающим текстом с помощью частицы de или простейшей темпоральной связи (kata ton auton katairon, tote и т. п.).
Своеобразие раздела о Феофиле у Продолжателя Феофана опять-таки четко вырисовывается при сравнении его с рассказом о том же императоре Генесия. У последнего — хронологически выдержанный (впрочем, весьма относительно) рассказ, заключенный между сообщениями о воцарении и смерти императора. У Продолжателя Феофана — практически построенные по риторической модели «деяния», сначала касающиеся внутренних, а затем внешних дел. Для «внешних дел» использован, видимо, пересказ соответствующих частей *ОИ. «Дела внутренние», скорее всего, скомбинированы из разнородных сообщений, где временные связи заменяются свободными ассоциациями.
Анализ четвертого раздела сочинения Продолжателя Феофана, кажется, мало что может дать для наших целей. Хронологизированный порядок следования эпизодов здесь почти совпадает с «Книгой царей» Генесия (см. с. 227). Можно подумать, что оба автора лишь повторяют композицию *ОИ. Внешнее подобие, однако, еще больше подчеркивает различие. У Генесия сообщения внутри-и внешнеполитической истории сочленены простейшим способом хронологического примыкания. 99 У Продолжателя Феофана на первый план выступает уже отмеченный нами метод ассоциаций, которые здесь оказываются особенно гибкими и разветвленными. Продемонстрируем различие между двумя авторами. В сочинении Генесия один за другим следуют два никак внутренне между собой не связанных эпизода: война с болгарами (Gen. 61.89—4) и распря между кесарем Вардой и Феоктистом (Gen. 61.5—64.83). Между ними — элементарное хронологическое сочленение («Прошло немного времени и...» — Gen, 61.5). Совершенно иначе у Продолжателя Феофана. История борьбы с болгарами «тянет» за собой рассказ о крещении болгар (с. 72). Последний эпизод есть и у Генесия, но стоит он там на своем хронологическом месте (Gen. 62.42—52). Между обоими событиями — дистанция в несколько лет, однако объединяются они именно в силу тематической близости. Если упомянутая пара эпизодов ассоциирована между собой «по этническому принципу» (в обоих случаях речь идет о болгарах), то следующий за ними эпизод присоединяется уже «по конфессиональному соответствию»: историк рассказывает о попытке обращения в истинную веру павликиан (с. 73). Рассказ же о павликианах совершенно естественно переходит в повествование об их союзе с арабами и о намерении царя Михаила выступить против последних (с. 74). В этом желании укрепляет царя кесарь Варда. Упоминание [244] Варды дает основание поведать о его распре с Феоктистом... (с. 74 сл.). На месте элементарного временного перехода в «Книге царей» Генесия («прошло немного времени и...») у Продолжателя Феофана оказывается довольно сложное сцепление «переливающихся» один в другой эпизодов. Еще более, чем с методом Генесия, контрастирует приведенный эпизод с принципами предшествующей историографии: не объективированное время, а объединенные в сложном сцеплении вокруг личности императора события составляют композиционную структуру сочинения. Что же касается времени, то оно «вытесняется на второй план» повествования, и его течение фиксируется лишь при необходимости. В анализировавшемся выше отрывке, например, сообщается, что рвущийся в поход на арабов Михаил успел между тем выйти из детского возраста (с. 74). Пока происходили сочлененные ассоциативными связями эпизоды, текло время.
Пятая книга «Хронографии» Продолжателя Феофана, известная обычно под наименованием «Жизнеописание Василия», занимает в произведении особое место. Она принадлежит самому императору Константину Багрянородному, была написана как самостоятельное произведение и лишь позже включена в состав «Хронографии». Вот почему книга эта обладает той композиционной законченностью, которой не может быть у других частей, входящих в труд Продолжателя Феофана. О форме своего сочинения сам Константин кое-что сообщает в предисловии. Приведем из него соответствующий отрывок. «Давно испытывал я желание и стремление всепомнящими и бессмертными устами истории вселить в умы серьезных людей опыт и знание и хотел, если бы достало сил, по порядку описать достойнейшие деяния самодержцев и их вельмож, стратигов и ипостратигов во все времена ромейской власти в Византии. Но потребны тут и время большое и труд непрерывный, и книг множество, и досуг от дел, а поскольку ничего этого нет у меня, я по необходимости избрал другой путь и расскажу пока что о деяниях и всей жизни от начала до самой смерти только одного царя» (с. 91). Искренность оправданий царственного писателя вызывает подозрения. Трудно представить, чтобы у Константина Багрянородного, скорее ученого-энциклопедиста, нежели практического деятеля, не находилось времени для исторических штудий. Еще труднее допустить, что в императорской библиотеке не хватало книг для написания исторического труда (откуда же он делал тогда выписки для своих знаменитых «эксцерптов»!). Приведенная декларация, — скорее, отговорка (может быть, перед самим собой!), нежели серьезные доводы. Желая поведать об одном императоре — своем деде, пугаясь необычности своего намерения, Константин пытается оправдаться перед читателем за отступления от привычных жанровых форм. Все новое в византийской литературе нуждается в оправданиях и извинениях.
Собираясь писать в жанре истории, Константин старается выдержать хронологический порядок изложения, но, выбирая темой жизнеописание только одного, к тому же им безмерно почитаемого, героя, неминуемо, как это уже бывало, попадает в сферу притяжения другого жанра — риторики. Рассказ о Василии начинается с традиционного для энкомия .сообщения о родине, родителях, воспитании и детских годах героя (91 сл.). [245]
После сообщения о провозглашении Василия единодержавным правителем начинаются, как и положено, praxeiV — «деяния» царя. Для большей наглядности приведем их схематический перечень, в возможных случаях вместе с указаниями на датировку.
1. |
255.6—261.19 |
Василий занимается государственными делами |
|
2. |
261.20—262.15 |
Василий занимается церковными делами. 8-й вселенский собор |
869/870 |
0 . |
262.16—263.2 |
Исправление законов |
870—879 (время подготовки Прохирона) |
4. |
263.3—264.1 |
Мятеж Симватия |
866 |
5. |
264.1-265.2 |
Коронование Константина и Льва |
|
6. |
263.13—271.10 |
Поход Василия против Хрисохира |
871(868) |
7. |
271.11—27и.10 |
Война с Хрисохиром, разрушение Тефрики |
872—878 |
8. |
276.11-277.4 |
Смерть патриарха Игнатия, рукоположение Фотия |
877 |
9. |
277.5—17 |
Восстание Иоанна Куркуаса |
|
10. |
277.18—284.5 |
Война с арабами, осада Адаты |
878 |
11. |
284.6—288.9 |
Поражение византийцев у Тарса |
883 |
12. |
288.11—313.20 |
Борьба с карфагенскими арабами |
866—880 |
13. |
314.3—316.12 |
Добродетели Василия |
|
14. |
310.13—321.16 |
Василий благодарит своих благодетелей |
Первые годы после воцарения? |
15. |
321.17—341.7 |
Строительная деятельность |
|
16. |
341.8—344.8 |
Миссионерская деятельность |
870-874 |
17. |
344.19—34;). 4 |
Смерть сына Василия Константина |
879 |
18. |
345.5—348.9 |
Снижение налогов |
|
19. |
348.9—351.21 |
Заточение в тюрьму сына Льва |
886 |
Нетрудно заметить, что тенденция к хронологическому следованию, как и в предыдущих книгах, все время «вступает в соревнование» со стремлением историка непременно завершить и представить в целом эпизод-рассказ.
Завершенные по содержанию и композиции эпизоды все время разрывают нить хронологического повествования. В самостоятельную часть выделяется рассказ о строительной деятельности Василия (п. 15), «на одном дыхании» представляет писатель историю пятнадцатилетней войны Василия с карфагенскими арабами (п. 12) и т. д. Знаменательно в этом отношении, что рассказ о борьбе Василия с павликпанами и его походах на Тефрику (п. 7), разделенный у Генесия на две части (Gen. 81.34—82.42 + 85.47—88.65), соединен у Константина Багрянородного в единое целое. 100
О том, что такой тип композиции вполне сознателен и, более того, составляет предмет размышления автора, свидетельствует и собственное его заявление. [246] Сообщив о четырех сыновьях царя Василия, Константин присовокупляет к рассказу и сведения о судьбе его дочерей. При этом, однако, считает нужным оговориться, что эти события случились позже, но пусть они будут сообщены здесь, поскольку они "как по природе, так и по рассказу (wper th jusei outw kai th dihghsei) связаны с четверкой братьев" (с. 113). Тематический принцип одерживает верх над хронологическим! Именно этот тематический принцип, вторгающийся во временную цепь, и создает в большинстве случаев хронологические «сбои», хорошо видные на приведенной схеме.
Любопытней, однако, другое. На не слишком последовательное, но в целом хронологически выдержанное повествование накладывается иная композиционная схема. Вновь приглядимся к перечню эпизодов. В первых пяти пунктах речь идет о распоряжении Василия внутренними делами империи. В пунктах 6—12 описываются в основном внешнеполитические события его царствования. В пунктах 13—18 рассказ вновь возвращается к деяниям царя, в основном во внутренней жизни государства. При этом места переходов четко отмечены самим автором. 101 Видимо, речь здесь должна идти о той же риторической рубрикации, которую встречали мы и в предыдущих книгах. Константин повествует о деяниях (praxeiV) царя, разделенных на «виды»: деяниях внутригосударственных, военных и тех, которые он совершил «самолично» (autourgoV). Риторическая рубрикация не подменяет хронологию, 102 а существует параллельно с ней, представляя собой дополнительное средство организации исторического материала. 103 Новая схема и в этом случае накладывается на уже существующую.
Один из излюбленных приемов классических филологов при анализе литературной формы — поиск модели. Ученые считают свой долг выполненным, находя или воображая образец, по которому творил или с которым соревновался древний автор. 104 Эта тенденция еще более утрирована специалистами по среднегреческой филологии, стремящимися (своеобразный комплекс неполноценности византинистов!) непременно найти модель в античной литературе. О попытке Александера свести структуру «Жизнеописания Василия» к схеме энкомия говорилось выше. Еще дальше пошел [247] Р. Дженкинс. 105 Исследователь, прозорливо увидевший в «Хронографии» Продолжателя Феофана многое, в чем и поныне отказывает византийской словесности большинство ученых, тем не менее полагал, что различия между книгами историка определяются просто-напросто подражанием разным античным образцам. 106 Нахождению таких образцов и посвящена значительная часть упомянутой статьи американского исследователя. Стремление византийцев творить по «моделям», в том числе и античным, хорошо известно. Вряд ли, однако, идентификация «оригинала» может удовлетворительно объяснить своеобразие «копии». Тезис этот находит подтверждение и на примере «Хронографии» Продолжателя Феофана. Безусловно, на структуру труда Продолжателя Феофана, как справедливо отмечают исследователи, влияли и «Жизнеописания» Плутарха, и энкомии исократовского типа, а возможно, и «История» Полибия. Однако ни одним из этих влияний нельзя объяснить своеобразия композиции «Хронографии».
Анализируя построение этого сочинения, мы обнаружили в пределах каждой книги не один, а несколько конкурирующих композиционных приемов. Повторим главные из них: хронологическое следование, риторическая рубрикация или биографическо-энкомиастический принцип, ассоциативно-тематическая связь, и наконец, определенный идеей провидения сквозной мотив повествования. Почти все упомянутые приемы так или иначе объединяют эпизоды вокруг личности героя. Не переставая быть историей («Хронографией»), сочинения Продолжателя Феофана уже становятся сборником биографий.
Любопытно отметить, как эта концентрированность повествования вокруг личности героя влияет не только на композицию всего произведения но и на синтаксис многих предложений, проникает в саму языковую структуру сочинения. Фразы «Хронографии» Продолжателя Феофана изобилуют громоздкими причастными оборотами (так называемыми ablativus absolutus), в которые подчас «упрятывается» вся прагматическая история, в то время как действия или состояния героя-царя передаются предикатами в личных формах. 107
Сочетание известных приемов порождает новое качество. Жанр, даже в консервативной византийской литературе, — величина подвижная и [248] изменяющаяся, и первые пять книг Продолжателя Феофана представляют собой как бы фиксированный момент эволюции исторического рода среднегреческой литературы. Чтобы оценить место Продолжателя Феофана на пути этой эволюции, мы сравнивали «Хронографию» с современной ей «Книгой царей» Генесия. Оба сочинения восходят к одному источнику, но как по разному оба автора сочленяют и компонуют свой материал!
«Книга царей» Генесия построена большей частью по традиционному для византийской историографии методу, а основывающиеся на том же историческом материале первые пять книг «Хронографии» Продолжателя Феофана — произведение по композиции новаторское (сколь ни парадоксально это понятие в применении к византийской литературе). Речь, видимо, должна идти о разнице не только творческих индивидуальностей, но и уровней исторического и художественного сознания. Вряд ли для этой эпохи следует проводить какую-то грань между тем и другим.
* * *
Итак, именно личность, ее биография в той пли иной степени выступают в сочинении Продолжателя Феофана «принципом организации действительности» 108 и потому на первый план литературоведческого анализа закономерно выдвигается исторический персонаж, образ исторического героя. Мы столь подробно останавливались в начале статьи на персонажах Иоанна Малалы и других хронистов, демонстрируя подчиненную, периферийную роль исторического героя у ранних авторов именно для того, чтобы в конце концов постараться показать, какой путь в этом отношении прошла последующая византийская историография.
Проблемы человека в византийской литературе, методов характеристики литературных героев в настоящее время едва намечены. 109 Почти никаких соображений по этому поводу не оставили и сами византийцы. Само понятие «образ» (eikwn, eidlon, tupoV, carakthr, весьма важное в византийской философии и теологии, соотносилось с кругом совершенно иных представлений, нежели ныне этот весьма расхожий в современном литературоведении термин. 110 Лишь единожды из приведенных В. Бычковым примеров слово eikwn употребляется (у Климента Александрийского) в значении, близком современному понятию образ-персонаж. Да и на деле не видели византийцы своей задачи в «обрисовке образов» персонажей, в том числе и исторических.
Агиографы считали нужным в соответствии с существовавшими клише прославлять святость своих героев, риторы откровенно восхваляли их в похвальных речах — энкомиях или обличали в поношениях — псогосах, однако как восхваление, так и его антипод поношение — нечто принципиально иное, нежели «изображение образа». Труд этот, казалось бы, [249] должны были взять на себя историки, но они вменяли себе в обязанность лишь изображать деяния (praxeiV) исторических персонажей или, наподобие риторов, одних восхвалять в качестве образца, других предавать проклятию, и только авторы риторических этопей (hJopoiia) до какой-то степени приближались к целям «обрисовки образов» в современном смысле этого выражения. Упомянутые этопеи, однако, никогда в Византии не выходили за рамки ординарных школьных упражнений.
Хотя «образ» существовал в Византии как бы на периферии литературного процесса, анализ методов его обрисовки представляет значительный интерес, особенно в жанре исторической биографии, где, как мы видели, он, возможно, неосознанно для автора становится формообразующим элементом, определяющим структуру произведения.
До сих пор мы не имели случая отметить, что наша «Хронография», вернее, первые пять ее книг, выполняют определенную идеологическую задачу. Константин Багрянородный, трудами и руководством которого создано было это сочинение, имел целью не только, как он сам декларирует, воспроизвести для памяти потомства и в поучение грядущим поколениям «унесенные временем» исторические события, но и нечто гораздо более конкретное и для него злободневное: утвердить право на престол и величие македонской династии, к которой сам принадлежал. Задача эта была не из легких. Обстоятельства прихода к власти основателя династии, деда Константина Багрянородного, были более чем подозрительны. Неграмотный крестьянин, сделавший головокружительную карьеру при Михаиле III, ставший его соимператором, а потом убивший своего благодетеля и захвативший его престол, был фигурой весьма одиозной даже в глазах византийского общества с его «вертикальной мобильностью», общества, приученного к неожиданным взлетам карьеры людей с самых низов. Необычная трудность этой задачи определила и весьма решительные и смелые средства, которыми она осуществлялась. Константин Брагрянородный придумывает или, во всяком случае, разделяет фантастическую версию о мнимом царском происхождении Василия, изображает его возвышение как результат действия божественного провидения, а самого Василия — избранником божьим. В руках Константина было и другое испытанное и никогда не ржавеющее оружие для прославления своего царственного героя — унижение и попрание его предшественника. Этим оружием Константин Багрянородный и воспользовался с немалым успехом. Михаил III изображен в «Хронографии» воплощением всевозможного зла. Мы знаем, что в византийской литературе, непосредственная практическая (в данном случае политическая) цель определяла и выбор литературных средств и приемов ее воплощения. Как уже отмечалось, раздел «Жизнеописания Василия» своей структурой ничем не отличается от обычного византийского энкомия — похвального слова, задача которого возвеличить и превознести своего героя.
Не только композиция всего произведения, но и образ самого Василия построен по строгим, установленным еще в поздней античности законам энкомия, на долю автора которого оставалось лишь заполнить «пустые ячейки схемы добродетелями и кое-какими конкретными особенностями [250] жизни героя. Поэтому конструкция образа Василия наглядна и очевидна и не нуждается в каком-либо специальном анализе.
Иное дело фигура Михаила III — антипода Василия. Раздел, ему посвященный, трудно назвать прямым поношением — «псогосом», распространенным в византийской риторике и являющимся своеобразным «энкомием наоборот». Анонимный автор считает своим долгом «писать историю», но методы, применяемые им для унижения Михаила III, весьма своеобразны, по-своему уникальны в византийской литературе и заслуживают специального обсуждения.
Последнему представителю аморийской династии Михаилу III вообще очень не повезло в византийской историографической традиции. Писавшие о нем хронисты (в основном Продолжатель Феофана, Константин Багрянородный, Генесий) изображают этого царя мотом, пьяницей, страстным любителем и участником конных ристаний, ради них забывавшем о неотложнейших государственных делах, богохульником и святотатцем, окруженным компанией низкопробных шутов. Примерно такая же репутация утвердилась за Михаилом и в научной историографии XIX в. В 30-х гг. нашего столетия начался пересмотр этой позиции. 111 Лишь тогда было справедливо замечено, что византийским историкам Х в. было выгодно чернить Михаила ради оправдания злодеяния его преемника Василия. 112 Добавим к этому, что произведения упомянутых писателей, как это уже подчеркивалось, восходят к одному источнику, и, таким образом, все они фактически повторяют инвективы, однажды произнесенные в адрес последнего аморийца. 113
«Реабилитация» Михаила III была завершена статьей Р. Дженкинса, специально посвященной образу этого византийского императора. 114 Американский ученый доказал литературное происхождение портрета Михаила; не реальные качества, а сочетания черт плутарховских Антония и Нерона составляют костяк образа византийского царя. Аргументы Р. Дженкинса основаны на убедительных лексических соответствиях и потому вполне доказательны. Можно было бы, по-видимому, считать проблему «закрытой», если бы не распространившееся в последнее время среди византинистов основательное мнение, что использование античной топики и лексики нисколько не мешает византийцам изображать современную [251] им реальность. 115 Разделяя это убеждение и не подвергая сомнению и основные выводы американского исследователя, попробуем тем не менее взглянуть на проблему с иной точки зрения.
Уже при первом чтении бросается в глаза, что образ Михаила обладает в произведении Продолжателя Феофана своей «концепцией». Пьянство, сквернословие, приверженность к игрищам, ристаниям и мимам, богохульство — все это, используя терминологию М. М. Бахтина, — «стихия низа», доминирующая в этом образе. Создается впечатление, что Продолжатель Феофана нарочито нагнетает низменные, как сегодня сказали бы, «натуралистические» детали для максимального снижения образа. Характерный пример: в числе приближенных Михаила оказывается человек, главным достоинством которого является умение задувать свечу ветром из брюха (с. 108; ср. Ps.-Sym. 659.8 sq.). Воистину деталь, достойная Аристофана или Рабле! Обратим, однако, внимание на отдельные эпизоды. 116
Рассказав о неодолимой страсти Михаила к конным ристаниям, заставляющей его забывать все и вся, Продолжатель Феофана заявляет, что и в других отношениях царь «нарушал приличие» (exepipte tou prepontoV), и приводит в качестве иллюстрации довольно необычную историю, которую здесь подробно перескажем (с. 85 сл.). Как-то раз Михаил встретил на улице женщину, крестным сына которой он был. Женщина шла из бани с кувшином в руках. Отослав во дворец находившихся при нем синклитиков, он вместе с «мерзкой и отвратительной компанией» отправился за женщиной, к которой обратился со следующими словами: «Не робей, веди меня к себе в дом, хочется мне хлеба из отрубей и молодого сыра». Не дав опомниться удивленной и не готовой к приему женщине, он расстелил вместо тонкой скатерти еще мокрое после бани полотенце, открыв запоры, вытащил еду из скудных запасов хозяйки и стал угощаться вместе с нею и «был сам всем: царем, столоустроителем, поваром, пирующим (basileuV trapezoupoioV, mageiroV, daitumwn — 200.3) и в этом «подражал он Христу и Богу нашему». Всю эту историю автор рассматривает как проявление тщеславия и «нахальной дерзости» императора (так мы за неимением лучшего варианта передаем греческое alazoneia). 117
Не подлежит сомнению, что описанная сцена разыгрывается в компании мимов (mimoi kai geloioi), в ее окружении царь находится постоянно (с. 104 и др.). Порождение языческой античности, мим, несмотря на гонения и проклятия со стороны христианской церкви, существовал во все века истории Византии, а возможно, ее и пережил. 118 В нашем распоряжении [252] имеются довольно авторитетные свидетельства о распространении мима и его роли в царствование отца Михаила, императора Феофила. 119
Однако что за сцену разыгрывает император перед изумленной своей кумой? Можно думать, что Михаил дает некое представление в стиле мимической игры. К сожалению, нам почти ничего не известно о содержании мимических спектаклей того времени, тем не менее отдельные намеки, содержащиеся в тексте самого Продолжателя Феофана, наводят именно на это предположение. Мы уже цитировали слова Продолжателя Феофана, что царь в разыгранной им ситуации исполняет роль столоустроителя (trapezopoioV), повара (mageiroV) и пирующего (daitumwn). Лучший же наш источник о мимических представлениях — Хорикий в речи в защиту мимов (VI в.) перечисляет следующие мимические персонажи: despothn, oiketaV, kaphlouV, allantopwlaV, oyopoiouV, estiatora, daitumonaV, sumbolaV, grajontaV, paidarion, yellizomenon, neaniskon erwnta, Jumoumenon eteron, allou tw Jumoumenw prauonta thn orghn 120 (господа, рабы, торговцы (кабатчики?), колбасники, повара, устроитель пиров, пирующие, подписывающие долговые контракты, лепечущий ребенок, влюбленный юноша, другой — в гневе, третий — унимающий гневающегося). Нет сомнения: упомянутые персонажи — устойчивые типы мимических представлений. Из тринадцати упомянутых типов четыре так или иначе встречаются в приведенном нами отрывке Продолжателя Феофана. «Пирующий» (daitumwn) находит полное лексическое соответствие у Хорикия. «Повар» (mageiroV у Продолжателя Феофана) назван у Хорикия oyopoioV, однако полная синонимия двух слов засвидетельствована тем же Хорикием. 121TrapezopoioV («столоустроитель») у Продолжателя Феофана синонимичен estiatwV Хорикия. 122 И наконец, как можно понять из дальнейшего текста Продолжателя Феофана, женщина, встреченная царем Михаилом, — не кто иная как торговка (или «кабатчица» — kaphliV). Слово же это встречается (в мужском роде) на третьем месте в списке Хорикия. Нет сомнения, что стабильные мимические типы, авторитетно засвидетельствованные для VI в., продолжали существовать и в IX в, при этом знаменательно, что в списке Хорикия они встречаются «кучно», как будто заимствованы из одного сюжета. Итак, император не просто «дурачится», а делает это по какому-то мимическому сценарию.
В действиях царя Продолжатель Феофана видит также и определенный богохульный смысл (он «подражал Христу и Богу нашему»). Издевательства мимов над Христом и христианскими догмами, обычные в первые [253] века нашей эры, еще долго продолжались после утверждения христианства в качестве господствующей религии. 123 Факт столь поздних насмешек мимов над христианством уникален, однако сведения наши для этого периода столь скудны, что сие обстоятельство не должно вызывать удивления; надо считаться, однако, и с тем, что Продолжатель Феофана мог усмотреть насмешку там, где ее на самом деле не было. 124
Возможно, имеют значение, не до конца нам пока ясное, и другие детали из приведенного эпизода. Вероятно, не случайно, что встретившаяся царю женщина возвращается из бани, да к тому же с кувшином и мокрым полотенцем. Баня как учреждение в Восточно-римской империи — наследнице античности выполняла вполне почтенные функции, однако нам знакома ситуация лишь «верхнего культурного слоя»; не исключено, что в «низовом мире» бане была уготована прямо противоположная роль, тем более что отдельные намеки на это можно встретить и в византийской литературе, 125 а у славян баня определенно принадлежит «смеховому, кромешному миру». 126
Перескажем близко к тексту следующий эпизод, на котором нам предстоит остановиться. 127 Пообещав рассказать, «как измывался Михаил над божественным, как выбрал патриарха из числа своих мерзких муже-баб, из них назначил одиннадцать митрополитов, как бы дополнив собой это число до двенадцати», Константин Багрянородный сообщает следующее. Михаил провозгласил патриархом некоего Грила 128, которого украсил [254] богатыми священническими одеждами. Одиннадцать человек он возвел в ранг митрополитов, а себя назначил архиепископом Колонии. Играя на кифарах, они совершали пародийные священнослужения. В драгоценные священные сосуды они помещали горчицу и перец и «с громким хохотом, срамными словами и отвратительным мерзким кривлянием передавали себе подобным». 129 Однажды вся эта компания вместе с восседавшим на осле Грилом повстречала на загородной дороге процессию, двигавшуюся с молитвословиями во главе с истинным патриархом Игнатием. Приблизившись, этот «сатиров хор» принялся под священную мелодию выкрикивать похабные слова и песни и «в гаме и сраме» дразнить патриарха, который со слезами на глазах молил прекратить поношение святынь и таинств. В другой раз царь пригласил мать сподобиться благословения от патриарха. На самом же деле Михаил усадил на трон все того же Грила, которому велел прикрыть голову. Не заметившая подлога императрица припала к ногам «патриарха», а тот «обратился к ней спиной и испускал из своего мерзкого нутра ослиные звуки».
Императорские забавы в этом случае гораздо менее невинны, чем в предыдущем эпизоде: Михаил не только пародирует литургию и христианскую обрядность (в частности, обряд святого причастия), но и само священное писание — двенадцать избранных митрополитов, конечно же, имитируют двенадцать апостолов.
«Столетия после утверждения христианства в качестве государственной религии, — пишет Г. Рейх, — и после того, как язычество было забыто, церковные соборы должны были запрещать мимам издеваться над обрядами христианской религии». 130 Как видим, издевательства эти продолжались и в IX в.
Наиболее интересная деталь из приведенного выше эпизода — назначение шутовского патриарха Грила (само имя Грил выбрано не случайно, оно обозначает в переводе с греческого «свинья»). По какому «стандарту» действует в данном случае император? Фигуры лжеепископов появлялись в византийских мимических представлениях и раньше. В частности, постоянно пародировавшийся обряд крещения требовал фигуры псевдосвященнослужителя. Такой псевдоепископ (yeudepiskopoV) — герой мима упоминается и в «Менологии царя Василия» (PG 117, 114).
Однако карнавальный характер приведенного эпизода указывает на иной, хотя и близкий по характеру, источник: на ту область широко распространенной обрядовой игры, которая связана с «перевернутыми отношениями» и, возможно, восходит к греческим Крониям и римским Сатурналиям 131. Традиции Сатурналий продолжались в средневековой Европе главным образом в знаменитом «празднике дураков» (festum fatuerum, [255] festum stultorum), разыгрывавшемся в рождественскую неделю в церквах Франции, Германии, Нидерландов и других стран 132. Различные сословия праздновали его в разные дни после рождества. В ряде случаев церемония сопровождалась выбором лжеепископа, которого в процессии с пением препровождали в церковь, где он, облаченный в священнические одежды, служил пародийную мессу, сопровождаемую непристойными речами и песнями. Иногда клирики появлялись в церкви в масках животных, женщин, сводников, шутов и т. п. Вместо фимиама курили кровяную колбасу или старую кожу, вместо просфоры ели жирные колбасы...
Традиции античных сатурналий имели продолжение и на территории средневековой Восточно-римской империи. 133 По сообщению Вальсамона (XII в.), на Рождество и Крещение клирики св. Софии надевали маски и, изображая из себя солдат, монахов, зверей, устраивали процессии в церкви. Другие клирики переодевались в возниц и забавляли зрителей 134.
В сообщении Вальсамона не говорится о выборе псевдоепископа. Такие случаи в Византии не засвидетельствованы, хотя нечто подобное происходило и там. В «Житии Стефана Нового» (PG 100, col. 1148 С) рассказывается, как Константин V обласкал втершегося к нему в доверие монаха-расстригу, сделав его участником «гнусных процессий» и присвоил ему наименование «папы веселия» (thV caraV papan). 135 Во втором случае речь идет о лжеэпархе. Во время игрищ, устроенных императором Алексеем III Ангелом во Влахернах по поводу свадьбы его дочери Анны с Феодором Ласкарисом, некий евнух изображал из себя эпарха Константинополя. 136
Поскольку, как мы полагаем, действия императора и его шутовской компании так или иначе связаны с ритуалами «перевернутых отношений», заслуживает внимания еще один эпизод, рассказанный Продолжателем Феофана, Константином Багрянородным и повторенный Продолжателем Георгия и Симеоном Логофетом.
Всеми силами злоумышляя против своего соправителя Василия, царь выбрал «одного из их гнусной компании (имеются в виду опять-таки мимы. — Я. Л.), ничтожного скопца и забулдыгу», гребца царской триеры Василикина, 137 облачил его в царские одежды и вывел к синклиту, вопрошая, не следует ли ему сделать этого Василикина царем. Эта выходка царя эпатировала собравшихся, которые «остолбенели, пораженные затмением и безумным безрассудством царя». Царица же Евдокия горько посетовала на унижение Михаилом достоинства царской власти. Перед нами опять-таки эпизод из области «перевернутых отношений»: возведение [256] на престол шута. Естественная параллель в данном случае: выборы шутовского короля на рождественских увеселениях в средневековой Европе («бобовый король»). Типологически сходные обычаи зафиксированы почти во всех регионах мира. 138
Каким похожим бы ни казалось поведение Михаила и его шутовской компании на ситуации ритуальных и полуритуальных празднеств, какими разительными ни представлялись бы этнографические параллели, они могут объяснить лишь форму действий византийского царя. Пытаясь хоть как-то проникнуть в их суть, мы вновь обратимся к аналогиям, на этот раз из русской истории.
Хорошо известно, что на Руси существовали так называемые «царские скоморохи», генетическая связь которых с византийскими мимами вполне вероятна. 139 Лучшим их временем было время Ивана Грозного, который любил тешиться вместе с ними, вызывая нападки и раздражение современников. Однако увлечение скоморошьими забавами — не единственное основание для аналогии с этим русским царем. Как известно, удалившись с опричниками в Александровскую слободу, царь Иван организовал своеобразный шутовской опричный монастырь, в котором три сотни опричников составили братию, а сам царь принял звание игумена, сочинил общежительный устав, лазил на колокольню звонить к заутрене, пел на клиросе, а потом председательствовал на пьяном застолье «чернецов». 140
Еще больше совпадающих деталей с проделками компании лжепатриарха Грила в образе действия знаменитого всешутейшего собора Петра I. Приведем описание этого «собора», сокращая рассказ В. О. Ключевского (выбор «источника» достаточно произволен). Собор «состоял под председательством набольшего шута, носившего титул князя-папы или всешумнейшего и всешутейшего патриарха московского, кокуйского и всея Яузы. При нем был конклав двенадцати кардиналов, отъявленных пьяниц и обжор с огромным штатом таких же епископов, архимандритов и других духовных чинов... Петр носил в этом соборе сан протодьякона и сам сочинил для него устав... Первейшей заповедью ордена было напиваться каждодневно и не ложиться спать трезвыми. У собора, целью которого было славить Бахуса питием непомерным, был свой порядок пьянодействия... свои облачения, молитвословия и песнопения, были даже всешутейшие матери-архиерейши и игуменьи. Как в древней Церкви спрашивали крещаемого «веруешь ли?», новопринимаемому члену задавали вопрос «пиеши ли?»... Бывало на святках компании человек в двести в Москве или Петербурге на нескольких десятках саней на всю ночь [257] до утра пустятся по городу «славить»; во главе процессии шутовской патриарх в своем облачении, с жезлом и в жестяной митре; за ним сломя голову скачут сани, битком набитые его сослужителями, с песнями и свистом. Или, бывало, на первой неделе Великого поста его всешутейство со своим собором устроит покаянную процессию: в назидание верующим выедут на ослах и волах или в санях, запряженных свиньями, медведями и козлами, в вывороченных полушубках. Раз на масленице 1699 г. после одного пышного придворного обеда царь устроил служение Бахусу; патриарх, князь-папа Никита Зотов... пил и благословлял преклонявших перед ним колени гостей». 141 Сходство в описании компаний Грила и Никиты Зотова настолько велико, что, кажется, лишь отдельные элементы географического и этнографического характера (сани зимой, вывернутые полушубки и т. п.) отличают одно от другого. Впрочем, не дадим себя увлечь тождеству деталей, иногда оно возникает и случайно, гораздо важней попытаться понять суть подобного рода действа. Но прежде обратим внимание на другое «совпадение». Как уже говорилось, Михаил III как бы имитировал избрание нового царя Василикина. Точно такие же представления устраивали и Иван Грозный и Петр I. Первый из них назначил лжецарем Симеона Бекбулатовича, «правившего» в течение двух лет, подписывавшего правительственные указы и принимавшего знаки почтения от самого царя Ивана. Второй определил на такую же роль князя Ф. Ю. Ромодановского, которого именовал «Вашим пресветлым царским величеством», а себя называл Петрушкой Алексеевым.
Об однотипности поведения (в том числе и шутовского) и сопоставимости фигур Ивана Грозного и Петра I в недавнее время писали А. М. Панченко и Б. А. Успенский 142. (Не случайно, должно быть, своего героя-диктатора создатели знаменитого фильма «Покаяние» также представили зловещим фигляром). Видимо, в этот ряд можно поставить и византийского царя Михаила III. «Поставить в ряд», однако, вовсе не означает объяснить. Не претендуя на какие-либо категорические обобщения, укажем на «типологическое» сходство основных биографических фактов и нрава трех царей, которое, возможно, и определяет столь похожие их действия и реакции. Все трое остались сиротами или полусиротами и еще детьми получили царское достоинство, все трое испытали деспотизм и оказались игрушками в руках соперничавших между собой придворных партий, были свидетелями кровавых и драматических событий, вокруг них разыгрывавшихся. Все трое рано повзрослели и рано получили единодержавную власть. Все трое предавались пороку пьянства, отличались жестокостью и переменчивостью, всем троим, наконец, в высшей степени была свойственна эксцентричность поведения.
Стремление царей к эпатажу, к эксцентричности, низменному комизму вряд ли имеет одну причину, в нем соединялись и элементарная пьяная удаль, и издевательство над привычными институтами (именно так воспринимали [258] это «ортодоксальные» критики самодержцев), и утверждение неограниченного своего величия (вплоть до отказа от этого величия) и, наконец, поиски коррелята к высокому, своеобразная компенсация сверхсерьезного и сверхвысокого комическим и низменным. Не станем конкретизировать эти положения. Любое уточнение привело бы нас в очень мало изученную и почти нам незнакомую область психологии власти.
Рассуждая о Михаиле III, мы сознательно «забывали» о том, что речь, в сущности шла не о реальном императоре, а о литературном его изображении. По прошествии одиннадцати веков не так-то легко отличить действительные черты исторического героя от их художественной интерпретации. Хотя можно, основываясь на свидетельствах паралелльных источников, предположить, что «низменность» поведения до некоторой степени. действительно была свойственна этому императору, однако подчеркивание и концентрация «стихии низа» в его образе относится уже к области; литературной.
Какими бы ни были приемы изображения Василия I и его антипода-Михаила III, образы их обрисованы в пределах принципа Schwarz-weis-malerei («черно-белого изображения»), свойственного «классической» византийской литературе. Однако у Продолжателя Феофана можно обнаружить признаки и иных методов подхода к историческому герою, гораздо более необычных для византийских писателей.
В первой книге, посвященной Льву V, дважды появляется эпизодический герой Иоанн Эксавулий, и оба раза этот персонаж наделяете» одной аналогичной характеристикой: Эксавулий — «муж искусный в познании природы и нрава людского» (с. 11). Это свойство, дважды подчеркиваемое и, вероятно, весьма ценимое писателем, неотъемлемо и от его художественного метода.
«Познание природы и нрава», несомненно новое свойство византийской литературы, как это часто бывает, заметно проявляется в деталях и небольших эпизодах. В отличие от своих предшественников анонимный автор нередко фиксирует у своих героев, даже эпизодических, частное, моментальное, «акцидентное». Он замечает, например, как изменился в лице при дурном известии Вардан (с. 8), какую странную позу принял представший перед Феофилом придворный шут Дендрис (с. 43) и так далее. Нередко эти наблюдения касаются душевных движений и состояний персонажа. Мятежник Фома Славянин при дурном известии сначала взволновался и обеспокоился, но потом пришел в себя. Кесарь Варда обуреваем был жаждой царской власти, смирить которую разумом был не в состоянии. Узнав о мятеже, Михаил Рангаве «был потрясен душой, но умом не поколеблен». Не станем продолжать ссылки. Для воспитанного на античной, а тем более на новой литературе читателя они, по-видимому, не говорят ни о чем. Стоит, однако, вспомнить, что в предшествующей хронистике с ее крайне обобщенными и скудными эпитетами персонажей, искусственно прилагаемыми к ним соматопсихограммами, с однозначностью отношений качество-действие («полюбил, как красивую»!), ничего подобного не существовало. Удобней, однако, показать этот новый стиль изображения персонажей не на эпизодических [259] героях, а на главных, оставшихся пока вне поля нашего зрения: Льве V, Михаиле II и Феофиле.
Все три героя проходят у Продолжателя Феофана с безусловным знаком минус. Все трое — иконоборцы, враги истинной ортодоксии и потому по всем канонам византийского мышления должны быть заклеймлены, опозорены, прокляты. Все полагающиеся проклятия по их адресу произнесены. Однако структура этих образов едва ли сводится к простому поношению.
Ради логики изложения начнем с Михаила II. Михаил II Аморийский — наиболее «черный» из упомянутых персонажей. Уже в предыдущем разделе, посвященном Льву V, в котором появляется эпизодическая фигура Михаила, он попутно охарактеризован как «болтливый, с дерзким языком» (с. 19) и далее уже в начале второй книги «бесстрашным и кровожадным» (с. 22). Но более или менее развернутая характеристика Михаила Аморийского начинается дальше (с. 23 сл.). Воспитанный в ложном вероучении иудеев и афинган, он был предан своей ереси и, войдя в зрелый возраст, не мог избавиться от «невежества и грубости» (amaJia kai agroikia). К словесным наукам он питал совершеннейшее отвращение и, находясь на царском троне, отличался знанием и любовью к вещам, достойным разве что простого крестьянина. Два качества: невежество и грубость — с одной стороны, еретические заблуждения и проистекающее отсюда нечестие (asebeia) — с другой, ставятся между собой во взаимосвязь, становятся лейтмотивом образа и определяют все поведение героя. Михаил жестоко преследует всех оставшихся верными иконопочитанию, чудовищно надругается над верой, вместе с тем презирает эллинскую науку, а «божественной» пренебрегает настолько, что даже запрещает ей обучать из-за страха, что кто-нибудь «с быстрым взором и искусной речью» посрамит его в его невежестве, ведь Михаил «настолько был слаб в складывании письменных знаков и чтении слогов, что скорее можно было прочесть целую книгу, чем он медлительным умом разберет буквы собственного имени» (с. 25). Будучи свойственны ему изначально невежество и нечестие только возрастают со временем и постепенно достигают своего апогея. Декларировавший в начале правления веротерпимость Михаил решения своего в жизнь не провел, обрушил жестокие репрессии на христиан, заслужив от автора традиционное для императоров-еретиков определение: «зверь дикий» (Jhh agrioV). В это время доходит Михаил до предела нечестия.
Еще один штрих в образе Михаила заслуживает внимания — неоднократно отмечаемая автором шепелявость речи царя (именно за это качество и получил Михаил прозвище «Травл» — шепелявый). Признак этот служит своего рода внешней маркировкой персонажа, любопытно, однако, что в одном случае этот физический недостаток прямо связывается с внутренней ущербностью героя. «Михаила, — пишет аноним, — все ненавидели и потому, что был он причастен ереси афинган, и потому, что отличался робостью, и потому, что речь у него хромала, а более всего потому, что не менее речи хромала у него душа» (с. 26).
При всей традиционности предъявленных Михаилу обвинений его [260] образ обладает (пусть в едва намеченном виде) определенной внутренней структурой. Свойства персонажа — не накладываемые извне (вспомним соматопсихограммы Малалы!), а находящиеся в определенной системе качества, определяющие к тому же действия и поступки героя. 143
Более сложную структуру представляют образы Льва V и Феофила. Уже первые характеристики Льва, тогда еще не успевшего занять царский престол, удивляют своей неоднозначностью. Лев воинствен, кровожаден, обрел славу храбреца, он устрашающ видом, огромен ростом и в то же время изыскан речью (с. 7). Вознесясь из низменного состояния до знатного положения, он проявил неблагодарность к своему благодетелю, впрочем, как отмечает автор, выказал мужество в борьбе с арабами (с. 9). В дальнейшем, однако, в войне нового царя Михаила Рангаве с болгарами Лев, «не умеющий мыслить честно и здраво» и обуреваемый властью, предает царя и в результате захватывает власть, хотя существует и другая версия, которая, как указывает писатель, представляет Льва в гораздо лучшем свете (с. 11). Как видно, фигура Льва, представленная еще до получения власти, как бы балансирует между плюсом и минусом, ее свойства поочередно попадают в сферу притяжения положительного и отрицательного полюсов. Та же неоднозначность сохраняется, а контрасты между одобрением и осуждением постепенно еще усиливаются в рассказе о Льве после воцарения. Описывая преступный акт узурпации, власти, Продолжатель Феофана, несмотря на явное осуждение, тем не менее сообщает о колебаниях Льва, раздумывающего захватывать ему или не захватывать царский престол. Впрочем, автор остается в сомнениях: то ли новый император ломал комедию, то ли вправду задумался над последствиями своих действий (с. 11). Эта неуверенность в мотивах поведения Льва здесь, как и в других случаях, еще более подчеркивает двойственность оценки героя. Толчком для полного раскрытия низменных свойств натуры Льва служит причина внешнего порядка: Лев одолевает в войне болгар и «эта победа прибавила ему дерзости и наглости и возбудила свойственную ему жестокость». Он без разбору карает виновных и невиновных и по заслугам вызывает к себе всеобщую ненависть (с. 15).
Второй толчок для «ухудшения» Льва — тоже внешнего свойства: это лжепрорицание монаха Симватия, требующего от царя уничтожения иконопочитания. Наш автор уже не стесняется здесь в употреблении эпитетов, первый иконоборческий император представляется теперь «воистину образом демонским, рабом невежества, тени безгласнее» (с. 16) (инвектива развивается crescendo, и автор как бы «забывает», что сам же отмечал у своего героя в числе прочих такое свойство, как изысканность речи). Такое «противоречие» не должно нас удивлять: законы византийской инвективы позволяют применять любые средства, приписывать объекту нападок [261] любые пороки, нисколько не соотнося их с реальностью. Оказывается даже, что нечестие Льва было предопределено с самого начала. Когда впервые патриарх возлагал корону на голову нового патриарха, он ощутил рукой не мягкие волосы, а тернии и колючки (с. 17).
Любопытно, однако, что, дойдя до своего пика, инвектива явно теряет прежний накал и повествование переходит в другую тональность. Приведем с сокращениями пассаж, касающийся государственной деятельности Льва: «Как никто другой болея честолюбием, принялся Лев за государственные дела: словно оса, никогда не расстающаяся со своим жалом, он сам упражнял свое воинство, во многих местах Фракии и Македонии собственными стараниями возвел от основания города и объезжал земли, дабы вселить ужас и страх во врагов. Потому-то, как рассказывают, и сказал после его кончины святой Никифор, что не только злодея, но и радетеля общего блага потерял город в его лице... Сам он был выше сребролюбия и потому из всех предпочитал людей неподкупных и отличал всех по доблести, а не богатству. Он хотел прослыть любителем правосудия, однако на деле им не был, впрочем, не был ему чужд, и сам восседал в Лавсиаке, и многие судебные дела рассматривал самолично... Однако всем этим хотел подольститься к народу и как бы покупал его расположение» (с. 17).
Вся характеристика построена на «диалектических» переходах. Да и появляется она вслед за более чем жестким и безусловным осуждением Льва. Не случайно в ней приведены слова патриарха Никифора, называющего Льва «не только злодеем, но и радетелем». Маятник оценок действительно колеблется в ней между «злодеем» и «радетелем», причем каждая последующая фраза ограничивает, уточняет, а то и отрицает значение предыдущей. Неожидан и ее вывод: все старания Льва вообще не что иное, как простое желание подольститься к народу, своеобразное лицемерие. Такая характеристика персонажа необычна в литературе Х в., но она явно предвещает великолепные, построенные на тончайших диалектических переливах описания персонажей замечательного писателя следующего века Михаила Пселла.
«Уравновешенная» характеристика, конечно, не спасает Льва от дальнейших суровых обвинений в нечестии и жестокости. Автор-иконодул не мог иначе обойтись с иконоборческим императором. Интересно, однако, что заключительный elogium, подводящий итог всему рассказу, вновь «диалектически уравновешен»: «Лев отличался жестокостью и как ни один из его предшественников — нечестием. И этим опозорил свойственную ему заботу о государственном благе, силу рук и храбрость» (с. 21).
Уже из этой заключительной характеристики нетрудно увидеть, что главные «организующие» черты образа Льва — жестокость и нечестие — не отличаются от характеристик другого иконоборца Михаила II, однако структура образа Льва много сложней и многогранней. Отмечая разнородность характеристики Льва, исследователи предполагали даже, что в распоряжении автора были различные источники, в том числе вполне благожелательные ко Льву и, возможно, исходящие из иконоборческих кругов (последние, естественно, до нас не дошли, как не дошло до нас ни одно [262] произведение писателя-иконоборца). Определенное подтверждение этому предположению имеется и в самом тексте Продолжателя Феофана. Вспомним, рассказывая о сражении византийцев с болгарами, в котором трагическую роль сыграло предательство Льва, анонимный писатель замечает: «...но есть и такие (авторы. — Я. Л.), которые приписывают спасение войска и мужество в бою Льву, в то время как замыслили зло и покинули боевые порядки якобы не воины Льва, а царские отряды» (с. 11).
Но даже если это и так, даже если наш писатель пользовался разноречивыми источниками, вряд ли «противоречия» фигуры Льва следует непременно объяснять как следствие метода «ножниц и клея» в его работе, продукт механического соединения взаимоисключающих данных. Непомерная подозрительность современных ученых, их стремление (отнюдь не во всех случаях безосновательное!) видеть в византийских писателях лишь бездушных компиляторов уже не раз заставляло исследователей проходить мимо значительных художественных явлений византийской словесности. То, что сочетание в образе противоречивых черт — не результат механического склеивания, а новая для византийской литературы структура, подтверждается и анализом другого персонажа «Хронографии» — императора Феофила.
Как ни в каком другом, в разделе о Феофиле исторический материал сконцентрирован вокруг героя. Исторические эпизоды и сообщения группируются вокруг фигуры главного персонажа и своеобразным образом «подбираются» для создания его характеристики. 144
Уже первые описания Феофила создают впечатление некоторой авторской неуверенности и двойственности в отношении к герою. «Феофил пожелал прослыть страстным приверженцем правосудия и неусыпным стражем гражданских законов. На самом же деле он только притворялся, стремясь уберечь себя от заговорщиков...». Демонстрировать это утверждение должен первый эпизод, рассказанный Продолжателем Феофана. Собрав во дворце всех способствовавших в свое время приходу к власти его отца Михаила и низвержению императора Льва V, он, «словно сокрыв в потемках звериный облик своей души, спокойным и ласковым голосом» обратился к собравшимся с речью, целью которой было выявить бывших заговорщиков. Поверившие обманным речам Феофила, они выступили вперед, и царь предал их власти закона. «Феофил, — продолжает автор, — возможно, заслуживает похвалы за соблюдение законов, но уж вряд ли кто припишет ему кротость и мягкость души» (с. 40).
Итак, оценив строгое исполнение законов лицемерным императором, Продолжатель Феофана тут же осуждает его за жестокость, однако (и это интересно) считает нужным для смягчения впечатления сообщить, что к этому поступку Феофил «добавил нечто достохвальное и хорошее»: изгнал мачеху Евфросинью и заставил ее вернуться в монастырь, поскольку счел ее брак с Михаилом «противозаконным». [263]
Далее, продолжая характеристику в благожелательном духе и как бы «забыв», что справедливость Феофила — не более как лицемерие, Продолжатель Феофана прибавляет: «В дальнейшем он пристрастился к делам правосудия и всем дурным людям был страшен, а хорошим — удивителен. Вторым — потому что ненавидел зло и отличался справедливостью, первым — из-за своей суровости и непреклонности» (с. 41). Однако выдерживать характеристику в том же духе автор отказывается, меняет тональность и вновь к меду прибавляет деготь: «Но и сам Феофил не остался незапятнан злом... держался полученной от отца мерзкой ереси иконоборцев. Ею морочил он свой благочестивый и святой народ, обрек его всевозможной порче... Из-за этого не удалось ему совершить соответствующих подвигов во время войн, но он постоянно терпел поражения...» (там же).
После этого замечания Продолжатель Феофана переходит к серии эпизодов, долженствующих рассказать о справедливости Феофила и его заботах о благоустроении государственных дел. Длинный перечень его благородных деяний кончается восторженной оценкой на самой высокой ноте: «В подобных делах являл себя Феофил великолепным и удивительным». Уже успевший привыкнуть к методу изображения Феофила читатель не спешит радоваться благостным оценкам, ожидает нового резкого перехода к другой тональности, и этот переход действительно не заставляет себя ждать уже в той же фразе: «...что же касается нас, благоверных почитателей святых божественных икон, какое там! Словно жестокий варвар старался он перещеголять всех, в этом деле отличившихся» (с. 46). Новая серия эпизодов призвана проиллюстрировать ересь и «зверство и безумие тирана» — «жестокого из жесточайших» и «мерзейшего из мерзких» царя Феофила.
Впрочем, вновь дойдя до высочайшей ноты, Продолжатель Феофана (уже в какой раз!) вновь меняет тональность и повествует и о необыкновенной любви Феофила к церковному пению, и о его воинской доблести (с. 50, 51), а предсмертная речь царя, отличающаяся сдержанными благородством и изяществом, вызывает слезы умиления у присутствующих и вполне сопоставима с аналогичными речами героев античной историографии (с. 62).
Как видно, непрерывно раскачивающийся маятник оценок Феофила имеет еще большую амплитуду колебаний, чем в случае со Львом V. Противоречивость характеристик иногда находится на грани несовместимости разных черт персонажа, будто даже разрушая цельность образа. Вряд ли, однако, следует вообще подходить к персонажу средневековой хроники с критериями, выработанными современным литературоведением для позднейшей литературы. Не исключено, что и здесь Продолжатель Феофана, а вернее, автор *ОИ, пользовался разными, в том числе и иконоборческими источниками с диаметрально противоположным освещением фигуры императора. Сути дела это не меняет. Рисуя образ Феофила, автор создает непростую и внутренне противоречивую структуру — противостоящую примитивным схемам предшествующей хронистики. [264]
Мы закончили краткое рассмотрение ранней византийской хронистики, охарактеризовав «Хронографию» Продолжателя Феофана. Настало время попытаться ответить на вопрос, поставленный в заголовке статьи. К. Крумбахер, весьма склонный распределять литературные произведения по формальным признакам, уверенно относит Продолжателя Феофана к числу хронистов. Уже в наши дни автор византийского раздела в уже цитированном выше солидном «Лексиконе средних веков» П. Шрайнер исключает «Хронографию» из поля своего внимания, молчаливо относя ее к «полноценным историям». П. Александер и Р. Дженкинз говорят о первых четырех книгах этого сочинения как о биографиях плутарховского типа, пятую же называют энкомиастическим жизнеописанием. 145
Вопрос о том, к какому жанру отнести «Хронографию» Продолжателя Феофана, обречен на полную зависимость от субъективных оценок, если мы останемся в кругу традиционных представлений и магии устойчивых терминов.
«Хроники» и «истории», утверждали мы, развивались в качестве параллельных, самостоятельных и редко смешиваемых жанров лишь до начала VII в. После этого «истории» исчезли вовсе и возродились лишь в Х в., хроники же продолжали свое существование до конца Византийской империи и даже писались позже.
Ученые обычно склонны объяснять новое появление «историй», в том числе и историй «биографического типа», в Х в. оживлением заглохшей было античной традиции. Упомянутая только что статья Р. Дженкинза так и называется «Классическая основа писателей после Феофана». Для доказательства своего тезиса ученый обращается к испытанному приему — розыскам и конечному обнаружению конкретных образцов, на которые ориентировались и которым подражали авторы. Для того чтобы проиллюстрировать, насколько распространен этот прием в классической и византийской филологии, напомню, что поколения ученых разыскивали образцы для самого Плутарха, биографии которого, по мнению Р. Дженкинза, послужили основой для жизнеописаний Продолжателя Феофана. Бесполезность этих занятий прекрасно показал С. С. Аверинцев. 146 Нет таких образцов и у Продолжателя Феофана, хотя, без сомнения, и он подвергался значительному античному влиянию.
То, что происходит в сочинении Продолжателя Феофана (главным образом в первых четырех его книгах), — это зарождение новых художественных структур в традиционном жанре византийской хронистики, прежде всего в композиционной структуре и структуре образов. По сути дела это рождение «истории», так сказать, из чрева «хронистики».
Рождение одного жанра в недрах другого — явление хорошо известное в истории литературы, в историографии в частности. Напомним в этой связи замечательно меткое определение А. С. Пушкиным Н. М. Карамзина, [265] которого поэт назвал «первым нашим историком и последним летописцем». Этот же процесс происходил и в античности, где классическая историография родилась из древней логографии и анналистики. 147
Историческое повествование Продолжателя Феофана, говорили мы, — не просто история, а своеобразная «“история" на пути к “биографии"». Процесс развития в историографии биографического принципа также вполне закономерен. В той же античности развитие шло от логографии и анналистики к монументальной, концептуальной истории, а от нее к исторической биографии, классиками которой стали Плутарх, Светоний и «Scriptores Historiae Augustae». Обращаясь и к вовсе близким нам примерам, вспомним, какой путь прошла послереволюционная историческая наука (во всяком случае, ее весьма значимая ветвь) от системосозидающих и «безгеройных» трудов ученых школы Покровского до пристального внимания и настойчивых попыток реконструировать личность исторических персонажей у историков наших дней. Не случайно мы переживаем сейчас расцвет жанра исторических биографий.
Чтобы по-настоящему оценить какой-либо процесс, в том числе и литературный, необходимо не только определить его истоки и проследить ход, но и взглянуть на него «с вершины», с точки зрения конечных результатов. В данном случае такой вершиной оказывается «Хронография» великого византийца XI в. Михаила Пселла, сочинение, в котором исторический материал уже фактически растворяется в биографиях и удивительной художественной силы характеристиках исторических персонажей, все повествование которого по сути дела не что иное, как усложненная характеристика героя. 148
У Михаила Пселла находят максимальное выражение тенденции, отмеченные нами у Продолжателя Феофана.
Похожа ли византийская литература, во всяком случае, византийская историография, на продукт затянувшегося декаданса» на литературу без внутреннего движения и развития, с писателями, отличающимися друг от друга лишь мерой своей образованности?.. [266]
Я благодарю А. И. Зайцева, обсудившего со мной ряд спорных мест греческого текста, И. Шевченко (США), предоставившего в мое распоряжение подготовленный им к изданию текст оригинала и английский перевод «Жизнеописания Василия», П. Шрайнера (ФРГ), приславшего мне фотокопию рукописи шестой книги, и К. К. Акентьева, просмотревшего пассажи, касающиеся истории византийского искусства и литературы, Примечания к разделу о строительной деятельности Василия I (с. 306 и след.) написаны нами в соавторстве с безвременно ушедшей из жизни В. Д. Лихачевой.
Сочинение Продолжателя Феофана — весьма важный исторический источник. Безусловно, его сообщения — не свидетельства очевидца и даже не рассказы «из вторых рук». Сейчас даже предположить невозможно, какой путь прошли первоначальные заметки участников или свидетелей событий, пока не получили окончательной литературной фиксации у Продолжателя Феофана. Тем не менее историк обязан обходиться тем, что есть, а для очень многих событий IX — середины Х в. данные Продолжателя Феофана — единственные сохранившиеся до наших дней свидетельства. Создать полноценный исторический комментарий к издаваемому произведению — почти то же самое, что написать подробную политическую и культурную историю Византии за полтора столетия. Наша задача несравненно скромнее: объяснить современному читателю непонятное и специфичное для Византии, установить хронологию событий, сравнить данные Продолжателя Феофана со свидетельствами параллельных источников, привести самую основную литературу вопроса.
Уже после того, как рукопись была сдана в печать, появились две книги, использовать которые было бы необходимо в настоящем комментарии: Константин Багрянородный. Об управлении империей: текст, перевод, коммент.; под ред. Г. Г. Литаврина и А. П. Новосельцева. М., 1989; Treadgold W. The Byzantine Survival, 1989.
Текст воспроизведен по изданию: Продолжатель Феофана. Жизнеописания византийских царей. М. Наука. 1992
© текст
-Любарский Я.Н. 1992
© сетевая версия - Тhietmar. 2003
© OCR: -Halgar Fenrirsson. 2003
© дизайн
- Войтехович А. 2001
© Наука.
1992